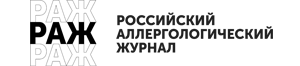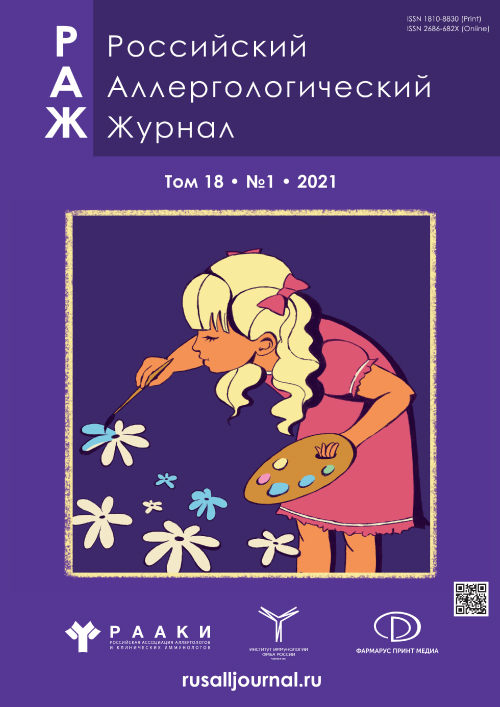Дупилумаб: новые возможности в терапии бронхиальной астмы и полипозного риносинусита
- Авторы: Дынева М.Е.1, Аминова Г.Э.1, Курбачева О.М.1, Ильина Н.И.1
-
Учреждения:
- Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
- Выпуск: Том 18, № 1 (2021)
- Страницы: 18-31
- Раздел: Научные обзоры
- Дата подачи: 26.11.2020
- Дата принятия к публикации: 01.02.2021
- Дата публикации: 15.03.2021
- URL: https://rusalljournal.ru/raj/article/view/1408
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA1408
- ID: 1408
Цитировать
Аннотация
Воспаление дыхательных путей играет ключевую роль при бронхиальной астме (БА) и полипозном риносинусите (ПРС). При этом воспалительный процесс может варьировать по интенсивности, что отражается на клинической картине заболевания и, что самое важное, на эффективности терапии. На сегодняшний день сохраняются высокий темп роста заболеваемости БА и ПРС, неудовлетворённость эффективностью существующей терапии тяжёлых форм БА, а особенно в сочетании с ПРС, поэтому главной задачей является поиск новых подходов для диагностики и терапии. Разработка биопрепаратов, нацеленных на отдельные и специфические компоненты воспаления, является многообещающим шагом вперёд в достижении контроля тяжёлой и плохо контролируемой БА и рецидивирующего ПРС. Одним из последних моноклональных антител, который показал значительные успехи в терапии БА и ПРС, является дупилумаб. Дупилумаб ― это полностью человеческое моноклональное антитело, направленное против α-субъединицы рецептора интерлейкина 4 (ИЛ-4Rα), общей как для рецепторных комплексов ИЛ-4, так и для рецепторов ИЛ-4/ИЛ-13. Тем самым это способствует подавлению сигнализации цитокинов 2-го типа (ИЛ-4 и ИЛ-13), так как сигнальный путь ИЛ-4/ИЛ-13/STAT6 играет решающую роль при T2-опосредованном воспалении. В настоящее время дупилумаб одобрен для лечения тяжёлой БА и ПРС, поэтому в данной статье обобщены основные сведения о дупилумабе и его эффективности при данных заболеваниях; представлены также результаты клинического наблюдения.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
В исследованиях начала XX века, посвящённых изучению особенностей патогенеза бронхиальной астмы (БА), описывались данные, которые позволяли говорить о разнообразии механизмов развития болезни [1, 2]. В последующем это привело к выделению не только фенотипов, но и эндотипов БА ― T2-опосредованное эозинофильное воспаление и не-Т2-опосредованное нейтрофильное (неэозинофильное) воспаление, которые имеют различные факторы риска и механизмы воспаления, от чего в свою очередь зависит терапия заболевания [3, 4].
При T2-опосредованном эозинофильном воспалении ведущие позиции занимают интерлейкины (ИЛ) 4, 5 и 13 [5]. Данные цитокины играют важную роль в патогенезе БА, где ИЛ-5 отвечает за дифференцировку, созревание и выживание эозинофилов, а ИЛ-4 и ИЛ-13 участвуют в рекрутировании эозинофилов в дыхательных путях (где они способствуют повреждению эпителия), стимуляции бокаловидных клеток дыхательных путей к секреции слизи и синтезу оксида азота. Эти цитокины стимулируют также продукцию иммуноглобулина Е (IgE) [6, 7].
В настоящее время известны многочисленные сопутствующие заболевания, влияющие на механизмы воспалительного процесса и течение БА, одним из которых является полипозный риносинусит (ПРС). Полипозный риносинусит следует рассматривать как фактор риска формирования тяжёлой и плохо контролируемой БА. Поскольку воспаление верхних дыхательных путей поддерживает воспаление нижних дыхательных путей и наоборот [8–10], такие пациенты чаще развивают обострения БА, поэтому им необходима госпитализация для купирования патологического состояния, а лечение требует более длительного времени [10].
По данным различных эпидемиологических исследований, среди пациентов с ПРС астма диагностируется значительно чаще ― в 45–76% случаев [11], что обусловлено, в первую очередь, общностью анатомического строения верхних и нижних дыхательных путей, сходными механизмами формирования воспалительной реакции, сложными ринобронхиальными взаимоотношениями, реализующимися с участием нервной системы. Причины развития ПРС до сих пор окончательно не выяснены, а лечение этого заболевания нельзя назвать в полной мере успешным в связи с частыми рецидивами.
Стоит отметить, что признаки ремоделирования ткани полипов и слизистой оболочки бронхов у пациентов с БА имеют общие черты: повышенное образование коллагена, утолщение базальной мембраны, гипертрофия и гиперплазия подслизистых желёз, метаплазия эпителия [12, 13]. При этом патогенез ПРС в большинстве случаев также характеризуется T2-опосредованным эозинофильным воспалением, где ИЛ-5 способствует привлечению эозинофилов в верхние дыхательные пути, в то время как ИЛ-4 способствует секреции IgE В-клетками, которые вызывают активацию тучных клеток и базофилов. На последующей стадии макрофаги под действием ИЛ-13 начинают продуцировать фактор XIIIа (фибринстабилизирующий фактор), который участвует в образовании поперечных фибриновых связей в слизистой оболочке носа при формировании полипа [14].
Таким образом, в связи с особенностями патогенеза БА и ПРС, где в воспалительном процессе обоих заболеваний участвуют схожие биомишени, ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13 находятся в центре внимания разработки биологических препаратов. При этом также необходимо учитывать взаимовлияние БА и ПРС. В связи с этим прорывом в области создания моноклональных антител был дупилумаб, который направленно действует на сигнализацию ИЛ-4 и ИЛ-13.
ИЛ-4 и ИЛ-13 как биомишени для дупилумаба
Ключевая роль ИЛ-4 и ИЛ-13 в развитии Т2-опосредованного воспаления обусловлена активацией ими различных типов клеток (T- и В-лимфоциты, тучные клетки, эозинофилы, NKT-клетки, макрофаги и др.) и индукцией секреции IgE, гистамина, эйкозаноидов, лейкотриенов, хемокинов, цитокинов, эотаксина и хемокина, регулируемого тимусом и активацией (thymus and activation regulated chemokine, TARC) [15, 16] (рис. 1).
Блокирование пути передачи сигналов ИЛ-4/ИЛ-13 у пациентов с БА и ПРС снижает концентрации многих из этих маркеров воспаления 2-го типа, включая IgE, периостин и множественные провоспалительные цитокины и хемокины (например, эотаксин, TARC), а также снижает уровень фракции оксида азота в выдыхаемом воздухе (exhaled nitric oxide fraction, FeNO) ― маркер воспаления в лёгких [17].
Рис. 1. Сигнальные пути рецепторов ИЛ-4 и ИЛ-13 и их ключевая роль в патогенезе бронхиальной астмы и полипозного риносинусита: ИЛ-4 и ИЛ-13 секретируются несколькими клетками и наряду с другими Т2-цитокинами, а также при участии ИЛ-33, ИЛ-25 и TSLP могут стимулировать клетки к их дальнейшей секреции. Это способствует поддержанию воспалительного процесса в слизистой оболочке верхних и нижних дыхательных путей, что объясняет тяжесть течения бронхиальной астмы и полипозного риносинусита. Клетки ILC2 секретируют, особенно в ответ на IL-33, большое количество ИЛ-13, а также ИЛ-5. ИЛ-4 обладает высоким сродством к ИЛ4Rα, но имеет меньшее сродство к γC и ИЛ-13Rα1. ИЛ-4 может связываться как через рецептор I типа, так и через рецептор II типа. ИЛ-13 исключительно связывается через рецептор II типа, тем самым поверхностная плотность клеток γC и ИЛ-13Rα1 оказывает значительное влияние на комбинацию рецепторов и доминирующий в клетках сигнальный путь.
Fig. 1. IL4 and IL-13 receptor signaling pathways and their key role in the pathogenesis of asthma and chronic rhinosinusitis with nasal polyps: IL4 and IL-13 are secreted from several cellular sources and along with other key T2 cytokines such as IL-33, IL-25 and TSLP can stimulate of cells to their secretion. This leads to maintain the inflammatory process in the upper and lower respiratory tract, which explains the severity of asthma and CRSwNP. ILC2 cells, particularly in response to IL-33 secrete large amount IL-13 as well as IL-5. IL-4 has a very high affinity for IL4-Rα with less affinity for γC and IL-13Rα1. IL-4 can signal through either the type 1 or type 2 receptor. IL-13 signals solely via the type 2 receptor. The cell surface density of γC and IL-13Rα1 thus will have significant influence on which receptor combination and which signalling pathway will dominate in cells.
ИЛ-4 и ИЛ-13 в основном секретируются CD4+Th2-клетками, при этом ILC2 секретируют преимущественно ИЛ-13, а также в меньших количествах продуцируются тучными клетками, эозинофилами, базофилами, CD8+T-клетками и естественными киллерными клетками (NKT-клетки) [15, 18, 19]. Данные цитокины вовлечены во многие аспекты как воспалительных, так и структурных изменений при БА и ПРС. Кроме того, эти цитокины усиливают сократительную способность гладкой мускулатуры бронхов, индуцируют рекрутирование эозинофилов в дыхательных путях, вызывая тем самым синтез эотаксина и повышение регуляции молекул эндотелиальной адгезии, таких как молекула адгезии сосудистого эндотелия 1-го типа [20–23].
Таким образом, ИЛ-4 и ИЛ-13 играют ключевую патогенетическую роль при БА и ПРС, поскольку они вызывают ряд воспалительных и структурных изменений, характерных для данных заболеваний дыхательных путей, особенно при их сочетании.
Многочисленные исследования, проводимые во всем мире, изучали эффективность и безопасность нескольких препаратов, нацеленных на ИЛ-13 (лебрикизумаб, тралокинумаб), но они не достигли конечных точек в исследованиях III фазы [24–26]. Изучался также механизм действия ИЛ-4 антагониста (пасколизумаб) [27], гуманизированных моноклональных анти-ИЛ-4 антител и рекомбинантной формы интерлейкина-4, который связывается с ИЛ-4 рецептором альфа-субъединицы и тем самым предотвращает ИЛ-4 и ИЛ-13 сигнализацию (питракинра) [28, 29]. Данные молекулы в дальнейшем не получили возможности перейти на следующий этап исследования, за исключением дупилумаба, который не только прошел все этапы клинического исследования, но и зарекомендовал себя как безопасное и эффективное лечебное средство.
Дупилумаб кардинальным образом отличается по механизму действия от большинства моноклональных антител (рис. 2), используемых в настоящее время в клинической практике для лечения БА, которые преимущественно нацелены на ИЛ-5 (меполизумаб и реслизумаб), ИЛ-5Rα (бенрализумаб) и IgE (омализумаб). Дупилумаб специфически и с высоким сродством связывается с субъединицей ИЛ-4Rα. Сигнализация ИЛ-4 происходит через рецептор I типа, который включает α-субъединицу рецептора ИЛ-4 и общую γ-цепь (ИЛ-4α/γc), при этом сигнализация ИЛ-4 и ИЛ-13 также может производиться через рецепторный комплекс II типа, содержащий α-субъединицу рецептора ИЛ-4 и α1-субъединицу рецептора ИЛ-13 (ИЛ-4α/ИЛ-13Rα1) [30–32]. Следовательно, дупилумаб ингибирует передачу сигналов через рецепторы как I, так и II типа.
На IIB и III фазе клинического исследования [33] у взрослых и подростков с умеренной и тяжёлой БА подкожные введения дупилумаба в дозе 200 и 300 мг на срок до 52 нед способствовали снижению концентрации оксида азота в выдыхаемом воздухе [34, 35], общего IgE в сыворотке крови пациентов, TARC, эотаксина-3 и/или периостина [36] в сравнении с плацебо (p <0,001).
Рис. 2. Механизм действия дупилумаба при Т2-опосредованном воспалении
Fig. 2. Mechanism of Dupilumab in type 2 inflammation.
В ходе исследования отмечено, что снижение уровня данных биомаркеров было практически максимальным после второй недели терапии дупилумабом [34–36] (за исключением IgE, для которого снижение было более медленным) и в значительной степени сохранялось на протяжении всего лечения [30, 31, 35, 36].
Дупилумаб также снижал инфильтрацию лёгких эозинофилами, метаплазию бокаловидных клеток и дисфункцию лёгких на мышиной модели аллергениндуцированного воспаления 2-го типа. Некоторые пациенты, которые получали дупилумаб, вырабатывали антитела против этого препарата, но данные антитела обычно имели низкий титр и не влияли на экспозицию, эффективность или безопасность препарата [30, 31, 33, 34].
Безусловно, дупилумаб, является перспективным биологическим препаратом в отношении БА и ПРС, где превалирует в основном T2-опосредованное воспаление, а в качестве доминирующих цитокинов выступают ИЛ-4 и ИЛ-13.
Роль дупилумаба в терапии бронхиальной астмы и полипозного риносинусита
Фенотипирование и эндотипирование БА является важнейшим этапом в диагностике и лечении БА, что позволит подходить более целенаправленно к данной проблеме. В связи с этим во всём мире параллельно ведутся различные многоцентровые, плацебоконтролируемые клинические исследования, целью которых является изучение эффективности моноклональной терапии БА с учётом фенотипа и эндотипа заболевания.
В настоящее время дупилумаб, изученный по меньшей мере у 3000 пациентов с БА, атопическим дерматитом, ПРС и эозинофильным эзофагитом, показал приемлемый профиль безопасности в плацебоконтролируемых исследованиях по всей стране.
В мире были проведены три важных двойных слепых плацебоконтролируемых исследования с рандомизированными периодами лечения продолжительностью 24–52 нед., в течение которых оценивалась эффективность добавления подкожного дупилумаба к базисной терапии у взрослых и подростков со среднетяжёлой или тяжёлой БА [14, 37, 38]. Эти исследования III фазы (QUEST [14] и VENTURE [37]) и фазы IIB (DRI12544 [38]) из программы клинического исследования LIBERTY включали пациентов в возрасте ≥12 или ≥18 лет с персистирующей БА в течение ≥12 мес. Критерии включения в проводимые исследования не требовали минимального уровня эозинофилов в периферической крови или других биомаркеров воспаления 2-го типа, но исключались пациенты с абсолютным количеством эозинофилов крови >1500 кл./мкл [39].
QUEST и DRI12544 были в первую очередь предназначены для оценки обострений БА и/или функции лёгких [14, 38], а VENTURE [37] был разработан в первую очередь для оценки экономии пероральных глюкокортикоидов (ГК), поэтому пациенты до участия в исследовании должны были регулярно получать системные ГК по показаниям в течение последних 6 мес и высокие дозы ингаляционных ГК (ИГК) в течение последних 3 мес. Перед рандомизацией участники исследования в течение 3–10 нед. снижали свою текущую дозу ГК до минимальных значений, на которых симптомы могли контролироваться. Затем следовал 24-недельный рандомизированный период лечения, состоящий из трёх частей: фаза индукции (0–4 нед.), в течение которой пациенты получали свою оптимальную дозу ГК; фаза снижения ГК (4–20 нед.), когда доза ГК снижалась каждые 4 нед. под контролем течения БА; поддерживающая фаза (20–24 нед.), при которой доза ГК, установленная в конце фазы снижения ГК, оставалась неизменной.
Во всех указанных исследованиях средний возраст пациентов составлял около 50 лет, объём форсированного выдоха за одну секунду (ОФВ1) ― 52–61%, а среднее количество эозинофилов в периферической крови ― около 347–360 кл./мкл. В ходе исследования установлено, что добавление дупилумаба приводило к снижению частоты обострений БА у взрослых и подростков, которые ранее не контролировались средними и высокими дозами ингаляционных [14, 38] или системных ГК [37].
M. Castro и соавт. [14] и K. Rabe и соавт. [37] отметили, что более выраженное снижение частоты обострений наблюдалось у пациентов с FeNO ≥25 ppb и ≥150 эозинофилов/мкл крови (снижение относительного риска обострений на 65–68% в сравнении с плацебо) [15]. При этом в подгруппе с более высоким уровнем FeNO (≥50 ppb) продемонстрировано более выраженное снижение риска обострений (на 69–70% в сравнении с плацебо); аналогично, как и в подгруппе с более высоким исходным уровнем эозинофилов крови (≥300/мкл), отмечено снижение риска обострений на 66–67% в сравнении с плацебо. При оценке спирометрических данных обнаружено, что в популяции пациентов с исходным уровнем эозинофилов крови ≤150 кл/мкл и FeNO <25 ppb среднее различие ОФВ1 до бронходилатации на дупилумабе в сравнении с результатом плацебо сложно расценить как клинически значимое (<100 мл). Кроме того, с ростом активности данных биомаркеров эффективность дупилумаба по влиянию на ОФВ1 значимо возрастала.
Данные исследования VENTURE [37] продемонстрировали более высокую в сравнении с плацебо вероятность снижения суточной дозы ГК до уровня <5 мг (статистически значимые различия с плацебо получены независимо от исходного уровня эозинофилов крови), а также более высокую вероятность полной отмены ГК (статистически значимые различия с плацебо получены для групп с исходной эозинофилией крови ≥150 и ≥300 кл/мкл).
При применении дупилумаба у 4–13% пациентов наблюдалось повышение уровня эозинофилов в крови (преимущественно транзиторного характера), что, однако, сопровождалось положительным клиническим эффектом в отношении тяжёлой БА [40, 41]. Данный факт может объясняться тем, что дупилумаб блокирует миграцию эозинофилов в ткани путём ингибирования выработки эотаксинов, опосредованной IL-4 и IL-13 (что подтверждается снижением уровня эотаксина-3 в сыворотке крови [14]), и молекул адгезии сосудистых клеток [42, 43]. В инструкции по медицинскому применению препарата Дупиксент® указано, что у некоторых взрослых пациентов на фоне лечения отмечается критическое увеличение уровня эозинофилов до ≥5000 кл./мкл, развитие эозинофильной пневмонии и васкулита, соответствующих эозинофильному гранулематозу с полиангиитом (синдром Чарджа–Стросс).
В ходе проводимых исследований у пациентов с исходными показателями эозинофилов в периферической крови не менее 300 кл./мкл было отмечено повышение содержания эозинофилов в периферической крови после начала лечения, но в дальнейшем это не повлияло на эффективность терапии, и после отмены дупилумаба содержание эозинофилов в периферической крови быстро снизилось. Именно поэтому необходимо уделить внимание вопросу влияния применения дупилумаба на содержание эозинофилов в периферической крови, так как данные о наличии отчётливой связи между назначением дупилумаба и повышением эозинофилов в периферической крови отсутствуют. При назначении препарата требуется проводить тщательную верификацию диагноза у каждого конкретного пациента с проявлениями тяжёлой БА и гиперэозинофилией крови для корректного назначения биологических препаратов, чтобы исключить вероятность наличия системной гиперэозинофильной патологии.
Безопасность и эффективность дупилумаба при БА представляют огромный интерес для применения данного моноклонального антитела при ПРС [44]. К тому же у многих пациентов БА сочетается с ПРС, и в этом случае БА характеризуется клинически более тяжёлым и неконтролируемым течением, с выраженной обструкцией дыхательных путей, по сравнению с пациентами, страдающими БА без ПРС. При этом ПРС принимает рецидивирующее течение, что приводит к частым оперативным вмешательствам.
Отделы слизистой оболочки полости носа, околоносовых пазух и нижних дыхательных путей взаимосвязаны между собой благодаря анатомическим, физиологическим и иммунным характеристикам. Воспаление, которое развивается в верхних и нижних дыхательных путях, приводит к уменьшению их просвета, увеличению количества назального и бронхиального секрета, формированию гиперреактивности. ПРС рассматривается как фактор риска формирования тяжёлой, плохо контролируемой БА. Считают, что у пациентов с БА наличие выраженного воспаления в нижних дыхательных путях обусловлено ПРС, поэтому таким пациентам чаще необходима госпитализация для купирования обострения БА, а лечение требует более длительного времени [45, 46].
Исследованиями последних лет показано, что лечение ПРС у пациентов с БА улучшает течение астмы, уменьшает число посещений врача и снижает количество потребляемых медицинских препаратов, поэтому создание моноклонального антитела (в данном ключе речь идёт о дупилумабе), которое с одинаковой эффективностью и безопасностью будет работать в отношении как БА, так и ПРС, представляет большую значимость.
В 2019 г. C. Bachert и соавт. [47], учитывая данные о взаимовлиянии БА и ПРС, провели два крупных многонациональных многоцентровых рандомизированных двойных слепых плацебоконтролируемых исследования в параллельных группах ― LIBERTY NP SINUS-24 и LIBERTY NP SINUS-52, где оценивали в первую очередь эффективность дупилумаба в качестве дополнительного лечения к стандартной терапии у взрослых пациентов с тяжёлой формой ПРС. При этом у участников исследования отмечались характерные для ПРС сопутствующие заболевания: бронхиальная астма (59%), аллергический ринит (58%) и аспирининдуцированное респираторное заболевание (28%). Исследование SINUS-24 проводилось в 67 центрах 13 стран, а SINUS-52 ― в 117 центрах 14 стран. Пациентам случайным образом назначали (1:1) дупилумаб подкожно в дозе 300 мг или плацебо каждые 2 нед. в течение 24 нед. В исследовании SINUS-52 пациентам случайным образом назначали (1:1:1) дупилумаб в дозе 300 мг каждые 2 нед. в течение 52 нед., затем каждые 2 нед. в течение 24 нед. и каждые 4 нед. в течение оставшихся 28 нед. или плацебо каждые 2 нед. в течение 52 нед. У пациентов, согласно данным эндоскопического осмотра, значительно уменьшились размеры полипов, что также положительно отразилось на синоназальных симптомах (уменьшились заложенность носа и ринорея). Почти все пациенты (97%) в SINUS-24 и SINUS-52 до включения в исследование получали системные ГК, перенесли хирургические вмешательства. Лечение дупилумабом, по сравнению с плацебо, значительно сократило использование системных ГК и долю пациентов, перенёсших полисинусотомию.
Таким образом, применение дупилумаба обеспечивало эффективный и стойкий контроль ПРС, улучшало качество жизни пациентов, о чём свидетельствуют данные анкетирования (опросник SNOT-22), снижало частоту рецидивов, что сводило к минимуму риск побочных эффектов, связанных с применением системных ГК и повторных полисинусотомий [47].
Несомненно, отсутствие обоняния ― один из самых неприятных симптомов у пациентов с ПРС, который коррелирует с тяжестью и рецидивами заболевания, оказывая существенное влияние на качество жизни. После лечения дупилумабом аносмия среди пациентов сократилась с 75 до 24–30%. Важно отметить, что эффективность дупилумаба была показана как в общей популяции, так и в подгруппах с более тяжёлым неконтролируемым течением ПРС (БА, лекарственная непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов или многочисленные полисинусотимии в анамнезе) [48, 49]. У пациентов с ПРС в сочетании с БА лечение дупилумабом также значительно улучшало функцию лёгких и способствовало лучшему контролю БА. Снижение уровня биомаркеров воспаления в сыворотке крови (общий IgE, TARC, эотаксин-3 и периостин) и носовом секрете (эозинофильный катионный белок, эотаксин-3 и общий IgE), наблюдаемое в этих исследованиях, соответствовало механизму действия дупилумаба и данным предыдущих исследований применения дупилумаба при БА [14, 37, 38, 50].
На сегодняшний день дупилумаб является единственным иммунобиологическим препаратом, одобренным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) для лечения полипозного риносинусита (июнь, 2019).
Клиническое наблюдение
О пациенте
Пациентка В., 27 лет, обратилась с жалобами на одышку при физической нагрузке, периодические приступы затруднённого дыхания, кашель с мокротой светло-жёлтого цвета, ощущение заложенности в груди, ночные пробуждения из-за ощущения нехватки воздуха, заложенность носа, отсутствие обоняния в течение последних 5 лет.
Анамнез заболевания. Страдает БА с 5 лет; в 10 лет выявлена сенсибилизация к бытовым аллергенам; не курит. В качестве базисной ингаляционной терапии назначен будесонид/формотерол (160/4,5 мкг по 2 дозы 2 раза/сут), монтелукаст (10 мг по 1 таблетке 1 раз/сут). С 14 лет беспокоят заложенность носа, выделения из носа. В 16 лет отметила отсутствие обоняния: выставлен диагноз полипозного риносинусита. В качестве базисной терапии по поводу ПРС назначен мометазона фуроат (50 мкг по 2 дозы 2 раза/сут). В 17 лет проведён первый курс аллергенспецифической иммунотерапии причинно-значимыми аллергенами (аллергены домашней пыли), в последующем было ещё 2 курса с положительным эффектом (уменьшилась заложенность носа).
После приёма Кетонала, сопровождавшегося приступом удушья, в дальнейшем стала беспокоить одышка при физической нагрузке, появились приступы затруднённого дыхания, при этом пациентка также стала отмечать выраженную заложенность носа. В связи с неконтролируемым течением БА был назначен тиотропия бромид (2,5 мкг по 2 дозы 1 раз/сут) и изменена доза будесонида/формотерола (160/4,5 мкг по 2 дозы 3 раза/сут). На момент обследования на фоне приёма вышеуказанных препаратов жалобы сохранялись.
Количество хирургических вмешательств (эндовидеоскопическая полипотомия носа) за весь период болезни составило 5. Оценка по опроснику контроля БА (Asthma Control Questionnaire, АСQ) составила 3,8 балла, по опроснику контроля исхода болезней носа и околоносовых пазух (Sino-nasal outcome nest-22 questions, SNOT-22) ― 89 баллов. Согласно опроснику качества жизни при БА (Asthma Quality of Life Questionnaire, AQLQ), у пациентки отмечались низкие значения: по шкале симптомов ― 1,97, по шкале эмоций ― 2,7, по шкале активности ― 2,2, по шкале окружающей среды ― 3,1 балла.
Физикальная диагностика
Данные объективного осмотра. На момент осмотра состояние удовлетворительное. Кожные покровы обычной окраски и влажности, высыпаний нет. Носовое дыхание резко затруднено. При аускультации дыхание жёсткое, выслушиваются сухие разнотональные хрипы в средних и нижних отделах лёгких с обеих сторон. Частота дыхания 20 в 1 мин, уровень насыщения крови кислородом (SpO2) 97%. Тоны сердца ясные, ритм правильный, частота сердечных сокращений 65 в 1 мин. Артериальное давление (АД) 120/80 мм рт.ст. Живот мягкий, безболезненный при пальпации.
Инструментальная и лабораторная диагностика
Лабораторно-инструментальные данные. Уровень эозинофилов в анализе крови 600 кл./мкл. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки: лёгочный рисунок усилен в прикорневых зонах. Корни тяжисты, больше с левой стороны. Диафрагма и синусы дифференцируются. Аорта и сердце без особенностей. При проведении спирометрии выявлена выраженная бронхиальная обструкция (табл.).
Аллергологическое обследование. При проведении кожных скарификационных проб подтверждена сенсибилизация к аллергенам домашней пыли.
Данные гистологического исследования подтвердили эозинофильный тип ПРС, где эозинофильно-нейтрофильный индекс составил 5,1. Отмечалась также выраженная клеточная инфильтрация, соответствующая 3-й степени ( >400 клеток в 10 полях зрения).
Таблица. Динамика симптомов полипозного риносинусита по клинико-лабораторным и инструментальным методам обследования
Table 1. Dynamics of clinical, laboratory and instrumental examination methods
Показатели | До лечения | После лечения | ||
через 3 мес | через 6 мес | через 12 мес | ||
ФЖЕЛ, л (%) | 1,48 (53,8) | 2,49 (78) | 2,73 (86) | 3,66 (102) |
ОФВ1, л (%) | 1,02 (39,8) | 1,61 (60) | 2,15 (74) | 2,34 (84) |
Индекс Тиффно, % | 48,7 | 53,3 | 60,8 | 64,7 |
ПOC, л (%) | 2,74 (47) | 3,74 (68) | 4,49 (74) | 6,31 (102) |
ПСВ, л/с | 380 | 450 | 490 | 510 |
Эозинофилы, кл./мкл | 600 | 1030 | 850 | 380 |
Примечание. ФЖЕЛ ― форсированная жизненная ёмкость лёгких; ОФВ1 ― объём форсированного выдоха за одну секунду; ПОС ― пиковая объёмная скорость выдоха; ПСВ ― пиковая скорость выдоха.
Note. FVC — Forced Vital Capacity; FEV1 — Forced Expiratory Volume in 1 second; PEF — Peak Expiratory Flow; PFM — Peak Flow Meter.
Клинический диагноз
Бронхиальная астма, смешанная форма тяжёлого течения, частично контролируемая. Дыхательная недостаточность 0-й степени. Аллергический ринит, персистирующее течение, средней степени тяжести. Сенсибилизация к бытовым аллергенам. Полипозный риносинусит. Лекарственная непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов.
Отсутствие полного контроля над симптомами БА на фоне приёма высоких доз ИГК/длительно действующего β2-агониста (ДДБА), длительно действующих антихолинергических препаратов, а также наличие рецидивирующего ПРС послужило основанием для подключения таргетной терапии ― дупилумаба в дозе 300 мг подкожно каждые 2 нед.
Лечение и исходы
Через 2 нед. от начала лечения пациентка отметила значительное улучшение самочувствия: кашель и одышка уменьшились. При мониторировании состояния пациентки через 3, 6 и 12 мес от начала терапии отмечалось улучшение показателей спирометрии (см. табл.), контроля симптомов БА, дальнейшее уменьшение одышки, приступов затруднённого дыхания, увеличение толерантности к физической нагрузке. Стоит отметить, что количество эозинофилов в периферической крови имело тенденцию к снижению через 6 мес от начала терапии, а уже через 12 мес от начала терапии данный показатель составил 380 кл./мкл против 600 до начала терапии дупилумабом. Тем самым полученные данные указывают на то, что количество эозинофилов в периферической крови нарастает на фоне лечения дупилумабом, но в дальнейшем идёт их постепенное снижение. Именно поэтому так важно при назначении препарата проводить диагностику каждому конкретному пациенту для исключения системной гиперэозинофильной патологии.
За 6 мес лечения дупилумабом обострения БА отсутствовали. Через 6 мес была пересмотрена базисная терапия: снижена доза ИГК/ДДБА (будесонид/формотерол по 640/18 мкг/сут с сохранением приёма монтелукаста и тиотропия бромида). Улучшение течения ПРС проявлялось снижением заложенности носа, потребности в топических ГК; пациентка отметила наличие обоняния через 1 мес от начала лечения; результаты осмотра оториноларингологом и данные мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) околоносовых пазух продемонстрировали уменьшение полипозных разрастаний (полипотомии не проводились) (рис. 3).
Пациентке продолжена терапия дупилумабом в прежней дозе.
В рамках данного клинического наблюдения стоит отметить, что ввиду недостаточной эффективности ранее проведённой терапии следующим шагом медикаментозного назначения были бы системные ГК, которые обладают рядом серьёзных побочных эффектов. Назначение дупилумаба не только способствовало улучшению течения БА и ПРС, но и предупредило развитие побочных эффектов от применения системных ГК. Кроме того, рецидив ПРС после полипотомий, согласно литературным данным [47], может наблюдаться в половине случаев отдалённых наблюдений (в течение 3 лет). В нашем клиническом наблюдении пациентке на протяжении 12 мес не только не проводились полипотомии, но даже роста полипозных вегетаций не зафиксировано.
Таким образом, подключение к терапии моноклональных антител ― дупилумаба ― позволило достичь контроля БА и ПРС без увеличения объёма проводимой терапии, а также необходимости в оперативных вмешательствах, что существенным образом улучшило качество жизни пациентки.
Рис. 3. Динамика симптомов полипозного риносинусита по данным мультиспиральной компьютерной томографии околоносовых пазух: a ― картина до лечения (04.03.2019). Признаки полипозного риносинусита. Определяется неравномерное утолщение слизистой оболочки ячеек решётчатой кости, верхнечелюстных пазух, клиновидной пазухи; воздушность пазух на этом фоне нарушена. Слева в верхнечелюстной пазухе ― образование мягкотканной плотности, вероятно, полип (синяя стрелка); b ― картина через 4 мес от начала лечения (28.07.2019). Отмечается положительная динамика: частично восстановилась воздушность правой верхнечелюстной пазухи, клиновидной пазухи; менее выражено утолщение слизистой оболочки в левой верхнечелюстной пазухе (оранжевые стрелки); размеры полипа слева также несколько уменьшились (синяя стрелка).
Fig. 3. Dynamics of CT of the paranasal sinuses: a ― CT picture before treatment (04 March 2019). Signs of CRSwNP. There is the uneven thickening of the mucous membrane of the ethmoid, maxillary, sphenoid sinus; airiness of the sinuses is broken. Soft tissue formation is visualized in left maxillary sinus, probably this is a polyp (blue arrow); b ― CT picture after the start of treatment (28 July 2019). There is a positive trend: airiness is partially restored in the right maxillary, sphenoid sinus, thickening of the mucous membrane is less pronounced in the left maxillary sinus (orange arrows), the size of the polyp also decreased slightly on the left (blue arrow).
Заключение
Биологическая терапия в последнее десятилетие вышла на новый уровень лечения аллергических заболеваний, демонстрируя всё более эффективные и безопасные моноклональные антитела, одним из которых является дупилумаб.
Дупилумаб ― это значительный прогресс в лечении БА и ПРС, и в первую очередь ― при их сочетании. Препарат продемонстрировал свою эффективность в борьбе с заболеваниями, характеризующимися воспалением 2-го типа, с минимальными побочными эффектами. Дупилумаб крайне необходим для лечения ПРС, поскольку позволяет избежать развития неблагоприятных эффектов от приёма системных ГК.
На сегодняшний день необходимо понять, какие пациенты отвечают на данную терапию наиболее эффективно. Это подчёркивает необходимость будущих исследований для выявления соответствующих биомаркеров и их глубокого анализа с целью прогнозирования эффективности терапии дупилумабом.
Таким образом, биологическая терапия в будущем станет лечебной стратегией, основанной на персонализированной медицине, для лечения БА и ПРС с учётом фенотипов и эндотипов заболевания.
Дополнительная информация
Конфликт интересов. О.М. Курбачева осуществляет лекторскую деятельность при поддержке компании SANOFI. Авторы декларируют отсутствие иных явных или потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Competing interests. O.M. Kurbacheva receives speaker’s honoraria from SANOFI. The authors have no other and apparent conflicts of interests to disclose in relation to this article.
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: концепция и дизайн исследования — Дынева М.Е., Аминова Г.Э., Курбачева О.М.; сбор и обработка материала — Дынева М.Е., Аминова Г.Э.; написание текста — Дынева М.Е., Аминова Г.Э.; редактирование — Ильина Н.И., Курбачева О.М.
Об авторах
Мирамгуль Есенгельдыевна Дынева
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Автор, ответственный за переписку.
Email: amanturliva.miramgul@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1965-8446
SPIN-код: 9504-0251
Scopus Author ID: 57214749322
ResearcherId: D-1943-2019
младший научный сотрудник
Россия, 15522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Гулюмхан Эльвировна Аминова
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: 79263037827@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-7139-4882
Россия, 15522, Москва, Каширское шоссе, д. 24
Оксана Михайловна Курбачева
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: kurbacheva@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3250-0694
SPIN-код: 5698-6436
д.м.н., профессор
Россия, 15522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Наталья Ивановна Ильина
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: instimmun@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-3556-969X
SPIN-код: 6715-5650
д.м.н., профессор
Россия, 15522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Список литературы
- Ильина Н.И., Курбачева О.М. Моноклональные антитела в системе противоастматического лечения // Российский аллергологический журнал. 2018. Т. 15, № 3. С. 5–15.
- Fahy J.V. Type 2 inflammation in asthma – present in most, absent in many // Nat Rev Immunol. 2015. Vol. 15, N 1. Р. 57–65. doi: 10.1038/nri3786
- Курбачева О.М., Павлова К.С. Фенотипы и эндотипы бронхиальной астмы: от патогенеза и клинической картины к выбору терапии // Российский аллергологический журнал. 2013. № 1. С. 15–24.
- Busse W.W. Biological treatments for severe asthma: a major advance in asthma care // Allergol Int. 2019. Vol. 68, N 2. Р. 158–166. doi: 10.1016/j.alit.2019.01.004
- Corren J. New targeted therapies for uncontrolled asthma // J Allergy Clin Immunol Pract. 2019. Vol. 7, N 5. Р. 1394–1403. doi: 10.1016/j.jaip.2019.03.022
- Diamont Z., Dahlen S.E. Type 2 inflammation and the evolving profile of uncontrolled persistent asthma // Eur Med J. 2018. Vol. 3, N 4. Р. 24–33.
- Dyneva M., Kurbacheva O., Shilovskiy I., et al. Аnalysis of the expression of th- 1, th- 2, th- 17 cytokines in patients with allergic and non- allergic bronchial asthma associated with chronic rhinosinusitis with nasal polyps // Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology, Supplement. 2019. Vol. 74, N S106. Р. PD0361.
- Савлевич Е.Л., Курбачева О.М., Хайдуков С.В. и др. К вопросу о диагностической значимости иммунологических показателей при хроническом полипозном риносинусите // Российский аллергологический журнал. 2017. Т. 14, № 4-5. С. 40–45.
- Савлевич Е.Л., Гаганов Л.Е., Егоров В.И. и др. Сравнительное пилотное исследование эндотипов хронического полипозного риносинусита у пациентов, проживающих в разных географических регионах Российской Федерации // Иммунология. 2018. Т. 39, № 4. С. 208–213. doi: 10.18821/0206-4952-2018-39-4-208-213
- Чичкова Н.В. Бронхиальная астма и заболевания полости носа и околоносовых пазух: единство патологических процессов в дыхательной системе // Русский медицинский журнал. 2015. Т. 23, № 18. С. 1132–1136.
- Курбачева О.М., Дынева М.Е., Шиловский И.П. и др. Полипозный риносинусит в сочетании с бронхиальной астмой: клинические особенности и клеточная характеристика локального и системного воспаления // Российский аллергологический журнал. 2020. Т. 17, № 1. С. 32–49. doi: 10.36691/RAJ.2020.17.1.003
- Lam K., Schleimer R., Kern R.C. The еthiology and pathogenesis of chronic rhinosinusitis: a review of current hypothesis // Curr Allergy Asthma Rep. 2015. Vol. 15, N 7. Р. 41–58. doi: 10.1007/s11882-015-0540-2
- Larsen K., Tos M. The estimated incidence of symptomatic nasal polyps // Acta Otolaryngol. 2002. Vol. 122, N 2. Р. 179–182. doi: 10.1080/00016480252814199
- Castro M., Corren J., Pavord I.D., et al. Dupilumab efficacy and safety in moderate-to-severe uncontrolled asthma // N Engl J Med. 2018. Vol. 378, N 26. Р. 2486–2496. doi: 10.1056/NEJMoa1804092
- Steinke J.W., Borish L. Th2 cytokines and asthma. Interleukin 4: its role in the pathogenesis of asthma, and targeting it for asthma treatment with interleukin-4 receptor antagonists // Respir Res. 2001. Vol. 2, N 2. Р. 66–70. doi: 10.1186/rr40
- Corren J. Role of interleukin-13 in asthma // Curr Allergy Asthma Rep. 2013. Vol. 13, N 5. Р. 415–420. doi: 10.1007/s11882-013-0373-9
- Murdoch J.R., Lloyd C.M. Chronic inflammation and asthma // Mutat Res. 2010. Vol. 690, N 1–2. Р. 24–39. doi: 10.1016/j.mrfmmm.2009.09.005
- Vatrella A., Fabozzi I., Calabrese C., et al. Dupilumab: a novel treatment for asthma // J Asthma Allergy. 2014. Vol. 7. Р. 123–130. doi: 10.2147/JAA.S52387
- Oh C.K., Geba G.P., Molfino N. Investigational therapeutics targeting the IL-4/IL-13/STAT-6 pathway for the treatment of asthma // Eur Respir Rev. 2010. Vol. 19, N 115. Р. 46–54. doi: 10.1183/09059180.00007609
- Andrews R., Rosa L., Daines M., Khurana H.G. Reconstitution of a functional human type II IL-4/IL-13 in mouse B cells: demonstration of species specificity // J Immunol. 2001. Vol. 166, N 3. Р. 1716–1722. doi: 10.4049/jimmunol.166.3.1716
- Chiba Y., Goto K., Misawa M. Interleukin-13-induced activation of signal transducer and activator of transcription 6 is mediated by an activation of Janus kinase 1 in cultured human bronchial smooth muscle cells // Pharmacol Rep. 2012. Vol. 64, N 2. Р. 454–458. doi: 10.1016/s1734-1140(12)70788-0
- Zheng T., Liu W., Oh S.Y., et al. IL-13 receptor α2 selectively inhibits IL-13-induced responses in the murine lung // J Immunol. 2008. Vol. 180, N 1. Р. 522–529. doi: 10.4049/jimmunol.180.1.522
- Maes T., Joos G.F., Brusselle G.G. Targeting IL-4 in asthma: lost in translation? // Am J Respir Cell Mol Biol. 2012. Vol. 47, N 3. Р. 261–270. doi: 10.1165/rcmb.2012-0080TR
- Saha S.K., Berry M.A., Parker D., et al. Increased sputum and bronchial biopsy IL-13 expression in severe asthma // J Allergy Clin Immunol. 2008. Vol. 121, N 3. Р. 685–691. doi: 10.1016/j.jaci.2008.01.005
- Hanania N.A., Korenblat P., Chapman K.R., et al. Efficacy and safety of lebrikizumab in patients with uncontrolled asthma (LAVOLTA I and LAVOLTA II): replicate, Phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trials // Lancet Respir Med. 2016. Vol. 4, N 10. Р. 781–796. doi: 10.1016/S2213-2600(16)30265-X
- Panettieri R.A., Sjobring U., Peterffy A., et al. Tralokinumab for severe, uncontrolled asthma (STRATOS 1 and STRATOS 2): two randomised, double-blind, placebo-controlled, Phase 3 clinical trials // Lancet Respir Med. 2018. Vol. 6, N 7. Р. 511–525. doi: 10.1016/S2213-2600(18)30184-X
- Hart T.K., Blackburn M.N., Brigham-Burke M., et al. Preclinical efficacy and safety of pascolizumab (SB 240683): a humanized anti-interleukin-4 antibody with therapeutic potential in asthma // Clin Exp Immunol. 2002. Vol. 130, N 1. Р. 93–100. doi: 10.1046/j.1365-2249.2002.01973.x
- Wenzel S., Wilbraham D., Fuller R., et al. Effect of an interleukin-4 variant on late phase asthmatic response to allergen challenge in asthmatic patients: results of two Ohase 2a studies // Lancet. 2007. Vol. 370, N 9596. Р. 1422–1431. doi: 10.1016/S0140-6736(07)61600-6
- Slager R.E., Otulana B.A., Hawkins G.A., et al. IL-4 receptor polymorphisms predict reduction in asthma exacerbations during response to an anti-IL-4 receptor α antagonist // J Allergy Clin Immunol. 2012. Vol. 130, N 2. Р. 516–522. doi: 10.1016/j.jaci.2012.03.030
- Wills-Karp M., Luyimbazi J., Xu X., et al. Interleukin-13: central mediator of allergic asthma // Science. 1998. Vol. 282, N 5397. Р. 2258–2261. doi: 10.1126/science.282.5397.2258
- Coffman R.L., Ohara J., Bond M.W., et al. B cell stimulatory factor-1 enhances the IgE response of lipopolysaccharide-activated B cells // J Immunol. 1986. Vol. 136, N 12. Р. 4538–4541.
- Moser R., Fehr J., Bruijnzeel P.L. IL-4 controls the selective endothelium-driven transmigration of eosinophils from allergic individuals // J Immunol. 1992. Vol. 149, N 4. Р. 1432–1438.
- Buttner C., Skupin A., Reimann T., et al. Local production of interleukin-4 during radiation-induced pneumonitis and pulmonary fibrosis in rats: macrophages as a prominent source of interleukin-4 // Am J Respir Cell Mol Biol. 1997. Vol. 17, N 3. Р. 315–325. doi: 10.1165/ajrcmb.17.3.2279
- Richter A., Puddicombe S.M., Lordan J.L., et al. The contribution of interleukin (IL)-4 and IL-13 to the epithelial mesenchymal trophic unit in asthma // Am J Respir Cell Mol Biol. 2001. Vol. 25, N 3. Р. 385–391. doi: 10.1165/ajrcmb.25.3.4437
- Boss´e Y., Thompson C., Audette K., et al. Interleukin-4 and interleukin-13 enhance human bronchial smooth muscle cell proliferation // Int Arch Allergy Immunol. 2008. Vol. 146, N 2. Р. 138–148. doi: 10.1159/000113517
- Kondo M., Tamaoki J., Takeyama K., et al. Elimination of IL-13 reverses established goblet cell metaplasia into ciliated epithelia in airway epithelial cell culture // Allergol Int. 2006. Vol. 55, N 3. Р. 329–336. doi: 10.2332/allergolint.55.329
- Rabe K.F., Nair P., Brusselle G., et al. Efficacy and safety of dupilumab in glucocorticoid-dependent severe asthma // N Engl J Med. 2018. Vol. 378, N 26. Р. 2475–2485. doi: 10.1056/NEJMoa1804093
- Wenzel S., Castro M., Corren J., et al. Dupilumab efficacy and safety in adults with uncontrolled persistent asthma despite use of medium-to-high-dose inhaled corticosteroids plus a long-acting β2 agonist: a randomised double-blind placebo-controlled pivotal phase 2b dose-ranging trial // Lancet. 2016. Vol. 388, N 10039. Р. 31–44. doi: 10.1016/S0140-6736(16)30307-5
- Sanofi-Aventis U.S. LLC and Regeneron Pharmaceuticals Inc. Dupixent (dupilumab) injection: US prescribing information. 2019. Available from: http://www.acces sdata.fda.gov. Accessed 23 Nov 2020.
- Masterson J.C., Capocelli K.E., Hosford L., et al. Eosinophils and IL-33 perepetuate chronic inflammation and fibrosis in a pediatric population with structuring Crohn`s ileitis // Inflamm Bowel Dis. 2015. Vol. 21, N 10. Р. 2429–2440. doi: 10.1097/MIB.0000000000000512
- Vallentin B., Barlogis V., Piperoglou C., et al. Innate lymphoid cells in cancer // Cancer Immunol Res. 2015. Vol. 3, N 10. Р. 1109–1114. doi: 10.1158/2326-6066.CIR-15-0222
- Tozawa H., Kanki Y., Suehiro J. Genome-wide approaches reveal functional interleukin-4-inducible STAT6 binding to the vascular cell adhesion molecule 1 promoter // Mol Cell Biol. 2011. Vol. 31, N 11. Р. 2196–2209. doi: 10.1128/MCB.01430-10
- Barthel S.R., Johansson M.W., McNamee D.M., Mosher D.F. Roles of integrin activation in eosinophil function and the eosinophilic inflammation of asthma // J Leukoc Biol. 2008. Vol. 83, N 1. Р. 1–12. doi: 10.1189/jlb.0607344
- Shirley M. Dupilumab: first global approval // Drugs. 2017. Vol. 77, N 10. Р. 1115–1121. doi: 10.1007/s40265-017-0768-3
- Galitskaya M.A., Shilovskiy I.P., Nikonova A.А., et al. Increased il-33 expression in atopic bronchial asthma patients with confirmed viral respiratory infection // Allergy. 2018. Vol. 73, N 105. Р. 298.
- Szczeklik A., Nizankowska E., Duplaga M. Natural history of aspirin-induced asthma. AIANE Investigators. European Network on Aspirin-Induced Asthma // Eur Respir J. 2000. Vol. 16, N 3. Р. 432–436. doi: 10.1034/j.1399-3003.2000.016003432.x
- Bachert C., Han J.K., Desrosiers M., et al. Efficacy and safety of dupilumab in patients with severe chronic rhinosinusitis with nasal polyps (LIBERTY NP SINUS-24 and LIBERTY NP SINUS-52): results from two multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group phase 3 trials // Lancet. 2019. Vol. 394, N 10209. Р. 1638–1650. doi: 10.1016/S0140-6736(19)31881-1
- Morjaria J.B., Proiti M., Polosa R. Stratified medicine in selecting biologics for the treatment of severe asthma // Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2011. Vol. 11, N 1. Р. 58–63. doi: 10.1097/ACI.0b013e3283423245
- Blauvelt A., de Bruin-Weller M., Gooderham M., et al. Long-term management of moderate-to-severe atopic dermatitis with dupilumab and concomitant topical corticosteroids (LIBERTY AD CHRONOS): a 1-year, randomised, double-blinded, placebo-controlled, phase 3 trial // Lancet. 2017. Vol. 389, N 10086. Р. 2287–2303. doi: 10.1016/S0140-6736(17)31191-1
- Parulekar A.D., Diamantb Z., Hanania N.A. Role of biologics targeting type 2 airway inflammation in asthma: What have we learned so far? // Curr Opin Pulm Med. 2017. Vol. 23, N 1. Р. 3–11. doi: 10.1097/MCP.0000000000000343
Дополнительные файлы