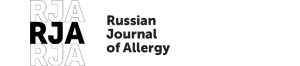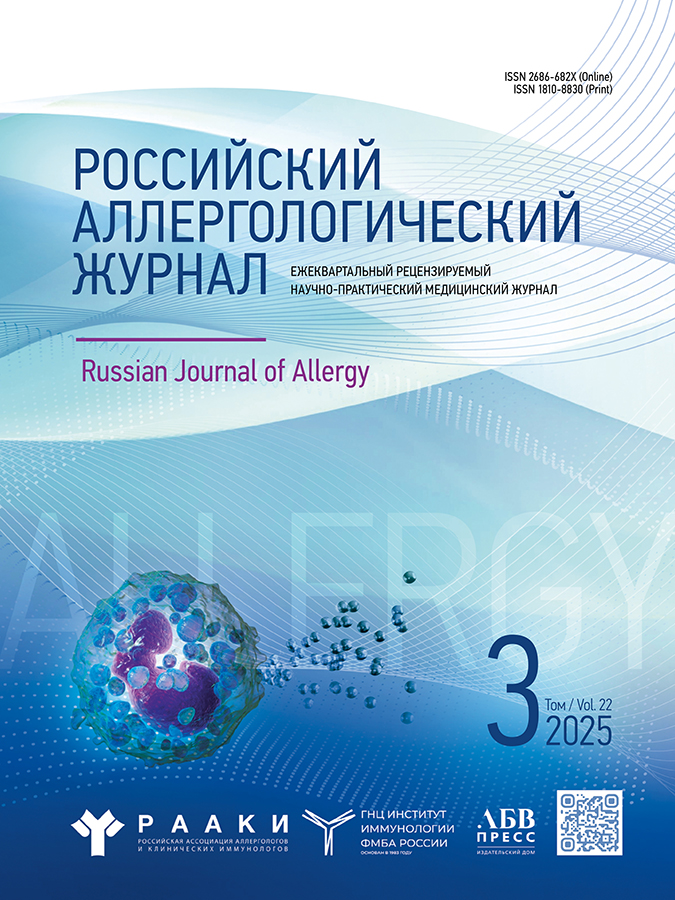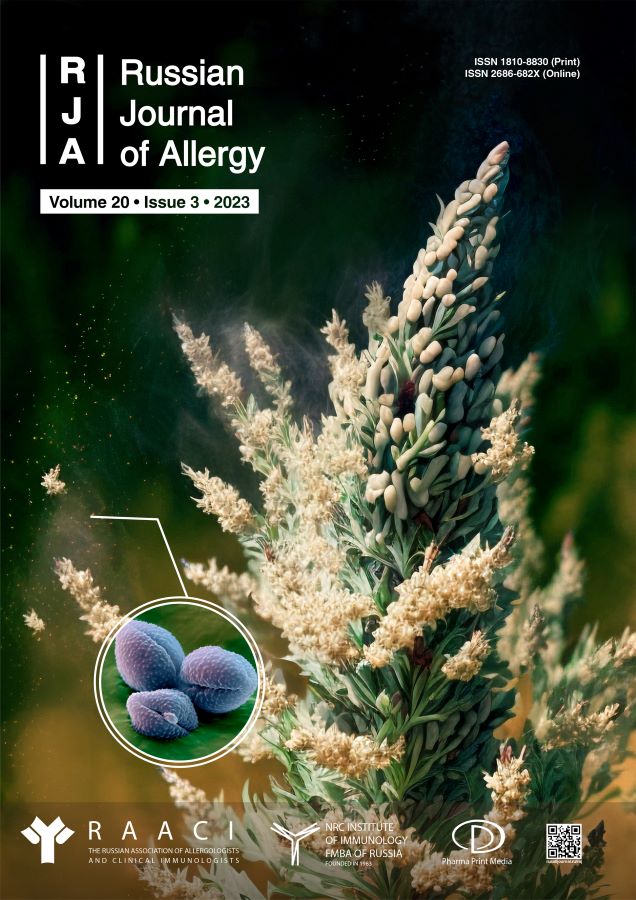Clinical and immunological characteristics of food allergy in different forms of inherited epidermolysis bullosa
- Authors: Galimova A.A.1, Makarova S.G.1,2, Murashkin N.N.1,3,4
-
Affiliations:
- National Medical Research Center for Children’s Health
- Lomonosov Moscow State University
- The First Sechenov Moscow State Medical University (Sechenov University)
- Central State Medical Academy of Department of Presidential Affairs
- Issue: Vol 20, No 3 (2023)
- Pages: 299-308
- Section: Original studies
- Submitted: 24.05.2023
- Accepted: 08.09.2023
- Published: 18.10.2023
- URL: https://rusalljournal.ru/raj/article/view/11547
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA11547
- ID: 11547
Cite item
Full Text
Abstract
BACKGROUND: Inherited epidermolysis bullosa is a severe orphan hereditary disease with a predominant lesion of the skin and mucous membranes. The study of the comorbid background, including food allergies, remains an urgent issue, given the difficulties that often arise in the treatment and formation of the diet in this category of patients.
AIM: to assess the frequency and nature of food allergies in children with inherited epidermolysis bullosa.
MATERIALS AND METHODS: An open single-center randomized observational retrospective and prospective study included 165 patients aged 2 months to 17 years with an inherited epidermolysis bullosa. All patients were evaluated for an allergic history, determination of the levels of total IgE and allergen-specific serum IgE to the most significant food allergens (UniCAP System, Thermo Fisher Scientific), if necessary, a diagnostic elimination diet and diagnostic product administration were prescribed, based on the data obtained, the diagnosis of food allergy was confirmed or excluded.
RESULTS: Among children suffering from inherited epidermolysis bullosa, confirmed food allergy was 13.9% of cases (in 13.4% in the group of children with dystrophic form of the disease, 15.2% in the group of children with a simple form of the disease). The main manifestations of food allergy in this cohort of patients were skin symptoms. Cow’s milk proteins were the most frequent etiological factor of food allergy (78.3%). Most children with food allergies had a high level of total IgE (87.5%). In children with non-IgE mediated form, high levels of total IgE were detected in 25% of cases, while these children were characterized by a severe course of the underlying disease or the presence of concomitant atopic dermatitis. Burdened heredity for allergic diseases turned out to be more typical for children with an IgE-mediated form of food allergy from the group of simple epidermolysis bullosa.
CONCLUSION: Early detection of food allergies in children with inherited epidermolysis bullosa, as an aggravating factor in the course of the underlying disease, is necessary to optimize the tactics of dietary support for patients with inherited epidermolysis bullosa.
Full Text
ОБОСНОВАНИЕ
Врождённый буллёзный эпидермолиз (ВБЭ) ― гетерогенная группа тяжёлых генетических заболеваний, вызванных дефектами белков дермоэпидермального соединения, которые проявляются механически индуцированным образованием пузырей на коже и слизистых оболочках [1]. Большая часть проявлений заболеваний этой группы приводит к инвалидизации больных и сокращению продолжительности их жизни [2]. Выделяют 4 основные формы ВБЭ, в основе которых лежат вариации в генах, кодирующих компоненты, необходимые для структурной и функциональной целостности эпидермиса и дермоэпидермального соединения [1, 3]. К наиболее часто встречающимся формам заболевания относят простую, для которой характерно образование пузырей в пределах эпидермиса, и дистрофическую, при которой пузыри образуются в верхних слоях дермы [1, 4].
При простом буллёзном эпидермолизе (ПБЭ) чаще всего зоной поражения являются места, наиболее подверженные трению (руки и ноги), однако тяжесть может варьировать в зависимости от подтипа ПБЭ [4]. Наиболее распространённым внекожным проявлением ПБЭ является образование эрозий или пузырей слизистой оболочки полости рта, которые возникают у 1/3 пациентов преимущественно в младенчестве, тогда как поражение слизистой пищевода с формированием стриктур для данной группы пациентов нехарактерно [4]. Разрешение патологических элементов протекает без рубцовой атрофии [1, 4]. У большинства пациентов к концу детства развивается кератодермия ладоней и подошв [1, 4]. К дополнительным признакам в редких случаях относятся дистрофия ногтей, милиумы, гипер- и/или гипопигментация [5]. Как правило, качество жизни пациентов с ПБЭ обычно не страдает, а продолжительность жизни почти всегда сопоставима с популяционной [6], тем не менее для редких подтипов ПБЭ могут быть характерны атрезия привратника, мышечная дистрофия, кардиомиопатия и/или нефропатия [5].
Для дистрофического буллёзного эпидермолиза (ДБЭ) характерно генерализованное образование пузырей, которые в некоторых случаях быстро эпителизируются, а при тяжёлых формах болезни формируют хронические эрозивно-язвенные поражения [1, 4]. Аналогичные повреждения могут отмечаться и на слизистых оболочках, преимущественно в полости рта, пищевода, анальной области, роговицы и конъюнктиве глаз [4, 7, 8]. Заживление при данной форме ВБЭ протекает с рубцеванием. Для данной группы больных характерна дистрофия или полное отсутствие ногтевых пластинок, милиуимы, наиболее часто встречается трудно поддающаяся коррекции белково-энергетическая недостаточность [1, 4, 9]. Выделяют два основных подтипа ДБЭ в зависимости от типа наследования: аутосомно-доминантный (ДДБЭ) и аутосомно-рецессивный (РДБЭ) [1]. РДБЭ относится к более тяжёлой форме заболевания, для которой типичны прогрессирующее и повторяющееся рубцевание кожи, формирование стриктур пищевода, псевдосиндактилий и контрактур кистей и стоп, а также глубокая задержка роста, анемия, нутритивная недостаточность [1, 4].
В зависимости от генетического дисбаланса, подтипа и типа наследования клиническая картина заболевания отличается полиморфизмом проявлений, степенью выраженности болевого синдрома, прогрессирующих кожных осложнений и степенью вовлечения различных органов и систем [4]. Таким образом, кожное и полиорганное воспаление является характерной чертой всех типов ВБЭ [1, 4]. Вероятно, что буллёзный эпидермолиз можно рассматривать как мультисистемное заболевание, в иммунопатогенезе которого происходит нарушение регуляции цитокинов Th1, Th2, Th17 типов [4, 10].
Наряду с болью, ещё одним субъективным симптомом при ВБЭ является зуд, который значительно ухудшает течение заболевания и качество жизни пациентов [10]. Механизм возникновения зуда при ВБЭ полностью не изучен. Усиление зуда, в свою очередь, может приводить к самоповреждению и повышению риска инфицирования, затрудняя и пролонгируя процессы заживления [10]. По существующим литературным данным, зуд, возникающий при ВБЭ, является результатом нарушения регуляции взаимодействия между клетками дермы, иммунными клетками и сенсорными нервными окончаниями [10–12]. В ответ на механическое повреждение синтезируются медиаторы воспаления, которые вовлекают в процесс иммунные клетки (в том числе Th2 и Th17). В последующих каскадах воспаления и заживления ран Т-клетки, эозинофилы, макрофаги и тканевые тучные клетки играют важную роль, стимулируя высвобождение множества интерлейкинов (ИЛ-17, ИЛ-21, ИЛ-22; ИЛ-4, ИЛ-12, ИЛ-31), которые активируют сенсорные нейроны, запуская сигналы зуда или даже повышая чувствительность нейронов к пруритогенам [10].
Особый интерес в иммунопатогенезе ВБЭ представляют T2-ассоциированные медиаторы (ИЛ-4 и ИЛ-13) и повышенный синтез IgE [10, 13, 14], что может свидетельствовать о персистировании воспалительного иммунного ответа 2-го типа и возможной связи с аллергическими заболеваниями. Документально подтверждено и повышенное количество эозинофилов в биоптатах кожи при всех типах ВБЭ, что может служить биомаркером поляризации Th2-клеток [15]. Таким образом, дисфункция кожных барьеров, влияние внешних факторов, чрезмерное воздействие антигенов, вовлечение воспалительного ответа 2-го типа ― все эти перечисленные факторы повышают вероятность развития транскутанной сенсибилизации и последующего развития пищевой аллергии [16].
Вопросы пищевой сенсибилизации и коморбидной пищевой аллергии у данной категории больных изучены недостаточно, что связано с редкостью заболевания и сложностью формирования достаточно большой для анализа группы пациентов. Однако это требует дальнейших исследований, поскольку имеет не только научное, но и важное практическое значение для оптимизации диетологического сопровождения больных ВБЭ.
В настоящей статье приведены результаты собственного наблюдательного исследования по оценке аллергенспецифического IgE-ответа к пищевым белкам и проявлений пищевой аллергии у 165 детей с ВБЭ.
Цель исследования ― изучить частоту встречаемости пищевой аллергии у детей с врождённым буллёзным эпидермолизом, характер её проявлений и профиль причинно-значимых аллергенов; определить особенности пациентов с пищевой аллергией.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Проведено наблюдательное одноцентровое открытое ретроспективно-проспективное исследование.
Критерии соответствия
Критерии включения: наличие у ребёнка генетически подтверждённого диагноза ВБЭ (простая и дистрофическая форма); подписанное информированное согласие родителей/законных представителей ребёнка на участие в исследовании и выполнение требований исследования.
Критерии исключения: дети с другими формами буллёзного эпидермолиза и другими пузырными дерматозами; отказ родителей/законных представителей ребёнка на участие в исследовании и выполнение требований исследования.
Условия проведения
Исследование проводилось на базе ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей» Минздрава России.
Продолжительность исследования
Период включения в исследование ― 2020–2022 годы, период наблюдения ― 1 год.
Описание медицинского вмешательства
Для проведения исследования было отобрано 165 пациентов с ВБЭ. Все пациенты соответствовали перечисленным критериям включения/исключения.
Всем пациентам с ВБЭ, вошедшим в исследование, проводилось комплексное обследование в соответствии с международными регламентирующими документами и клиническими рекомендациями по ведению больных с данной патологией [1, 17]. Все дети были проконсультированы аллергологом, диетологом. Проводились детальный разбор пищевого анамнеза, включавший в себя оценку вероятных клинических реакций при подозрении на пищевую аллергию, а также оценка и коррекция рациона. Иммунологические и аллергологические методы обследования включали определение концентрации общего IgE сыворотки крови и аллергенспецифических IgE к наиболее распространённым пищевым аллергенам и продуктам, наиболее часто используемым в питании детей (молоко и его фракции, куриное яйцо, говядина, баранина, курица, индейка, кролик, свинина, пшеница, глютен, ячмень, овёс, рожь, рис, яблоко, груша, банан), с помощью метода непрямой иммунофлуоресценции на автоматическом анализаторе ImmunoCAP250 (UniCAP System, Thermo Fisher Scientific, ранее Phadia АВ). При подозрении на пищевую аллергию с диагностической целью детям назначалась диагностическая элиминационная диета с исключением вероятного причинно-значимого аллергена, продолжительность которой составляла не менее 4 недель. После подтверждения диагноза ребёнку назначалась лечебная элиминационная диета продолжительностью 6–12 месяцев в соответствии с международными [18] и отечественными [19] клиническими рекомендациями по ведению детей с пищевой аллергией. Пациенты с ВБЭ получали наружную терапию согласно регламентирующим документам по ведению больных ВБЭ.
Анализ в подгруппах
В ходе исследования были сформированы две группы пациентов: с простым ВБЭ и дистрофическим ВБЭ как наиболее часто встречающимися фенотипами ВБЭ.
Этическая экспертиза
Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Минздрава России (протокол № 8 от 26.06.2020).
Статистический анализ
При расчёте выборки, учитывая усреднённое значение распространённости ВБЭ в Российской Федерации [4] и допустимой погрешности 5%, уровне надёжности 95%, необходимый минимальный размер группы составил 132 пациента.
Для сбора и хранения данных использовали индивидуальные регистрационные карты. Обработка данных проводилась с использованием методов описательной статистики. Количественные данные были представлены в виде медианы и интерквартильного размаха (Ме [Q1%; Q3%]). Значимость различий для частотных показателей анализировали с помощью таблиц сопряжённости с применением точного критерия Фишера.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Объекты (участники) исследования
В исследование включены 165 пациентов с ВБЭ (79 мальчиков и 86 девочек), из них 119 детей с дистрофической формой (медиана возраста 5,64 [2, 4; 9, 4] года) и 46 детей с простой формой (медиана возраста 5,63 [1, 8; 9, 0] года).
Основные результаты исследования
В результате сбора анамнеза детей с ВБЭ, со слов родителей, выявлено, что 44 (25,5%) ребёнка когда-либо развивали клинические реакции в виде усиления зуда, нехарактерных для основного заболевания кожных высыпаний, гастроинтестинальных симптомов в ответ на приём определённых продуктов, также отмечался самостоятельный отказ детей от употребления конкретных продуктов. Так, в 17 случаях (у 9 пациентов с ДБЭ и 8 пациентов с ПБЭ) родителями ранее отмечались клинические реакции на ряд продуктов, со временем вошедших в рацион детей с удовлетворительной переносимостью, но диагноз пищевой аллергии так и не был установлен или оставался под сомнением.
Из общего числа детей, реагирующих, по мнению родителей, на продукты, в 22 случаях (11 детей с ДБЭ и 11 детей с ПБЭ) реакции развивались преимущественно на минимальные дозы гистаминолибераторов (шоколад, клубнику, цитрусовые, помидоры) и расценивались как псевдоаллергические реакции, при этом только 4 (18%) человека развивали реакции исключительно на гистаминолибераторы.
Важную дополнительную информацию давали результаты диагностической элиминационной диеты и диагностического введения продукта. Диагноз истинной пищевой аллергии за период обследования установлен 16 (13,4%) пациентам с ДБЭ и 7 (15,2%) ― с ПБЭ.
Кожные симптомы являлись основным проявлением пищевой аллергии и включали усиление зуда и образование вследствие этого новых пузырей, также было характерно появление пятнисто-папулёзной сыпи, высыпаний эритематозно-сквамозного характера, ухудшение заживления ран, образование мокнутий на местах бывших пузырей.
Наряду с указанными клиническими реакциями также фиксировались гастроинтестинальные симптомы, включавшие нарушения стула, срыгивания, боли в животе. Однако, в силу того, что у больных ВБЭ гастроинтестинальные нарушения относятся к довольно частым внекожным осложнениям [20], перечисленные симптомы перекликаются с гастроинтестинальными проявлениями пищевой аллергии и тем самым затрудняют её диагностику. Таким образом, гастроинтестинальная форма пищевой аллергии устанавливалась на основании положительного эффекта назначаемой диагностической элиминационной диеты. Не исключено, что частота гастроинтестинальных проявлений пищевой аллергии в действительности может отличаться от полученных нами результатов и быть выше (табл.1).
Таблица 1. Особенности клинических проявлений
Table 1. Features of clinical manifestations
Форма ВБЭ | Пищевая аллергия, n (%) | Кожные проявления, n (%) | Гастроинтестинальные проявления, n (%) |
ДБЭ, n=119 | 16 (13,4) | 16 (100,0) | 4 (25,0) |
ПБЭ, n=46 | 7 (15,2) | 7 (100) | 2 (28,6) |
Примечание. ВБЭ ― врождённый буллёзный эпидермолиз; ДБЭ ― дистрофический буллёзный эпидермолиз; ПБЭ ― простой буллёзный эпидермолиз.
Note: ВБЭ ― congenital epidermolysis bullosa; ДБЭ ― dystrophic epidermolysis bullosa; ПБЭ ― simple epidermolysis bullosa.
Анализ IgE-ответа у детей с ВБЭ продемонстрировал, что высокие уровни общего IgE более характерны для ДБЭ (n=64; 53,4%), чем для ПБЭ (n=15; 33,3%); p=0,015.
По результатам аллергообследования, 57 (34,7%) детей с ВБЭ (37,8% с дистрофической и 24% с простой формой ВБЭ) имели повышенные уровни IgE к ряду наиболее распространённых пищевых аллергенов, из них только у 26,7% фиксировалась клиническая реакция. Уровни аллергенспецифических IgE распределялись преимущественно в диапазоне 1–3-го классов, и только у 3 детей отмечен диапазон сенсибилизации от 4-го до 6-го класса (дети с тяжёлыми клиническими проявлениями пищевой аллергии, из них 2 с ДБЭ и 1 с ПБЭ).
Наиболее распространённая сенсибилизация выявлялась к белкам коровьего молока: у 21,8% детей с ДБЭ и у 18,1% с ПБЭ. Следующими по частоте встречаемости были белок куриного яйца (15,2 и 15,0%), банан (13,4 и 9,7%), пшеница (13,0 и 7%), глютен (10,5 и 11,4%). sIgE к белкам растительного происхождения одинаково встречались в обеих группах (рис. 1). Для детей с ДБЭ характерен более широкий спектр сенсибилизации, который достигается за счёт белков животного происхождения (треска, лосось, баранина). Для сенсибилизированных детей с ВБЭ характерна множественная сенсибилизация к пищевым аллергенам: так, 53,3% детей с ДБЭ и 25% с ПБЭ имели сенсибилизацию более чем к трём аллергенам; более чем к 10 продуктам были сенсибилизированы 17,7% (n=8) детей с ДБЭ и 8,3% (n=1) с ПБЭ. Профиль сенсибилизации отличался в разных возрастных группах [21]. Нельзя исключить, что данный профиль сенсибилизации связан с частым употреблением данных продуктов.
Рис. 1. Частота выявления аллергенспецифических IgE к наиболее распространённым аллергенам у всех детей с врождённым буллёзным эпидермолизом: a ― при дистрофической форме; b ― при простой форме.
Fig. 1. The frequency of detection of allergen-specific IgE the most common allergens in all children with inherited epidermolysis bullosa: a ― dystrophic form; b ― simple form.
У детей с ДБЭ в большинстве случаев выявлялись IgE к причинно-значимым пищевым белкам, участвующим в развитии пищевой аллергии, тогда как для группы с ПБЭ была характерна не-IgE-опосредованная форма пищевой аллергии (рис. 2) (р=0,34262).
Рис. 2. Частота выявления аллергенспецифических IgE к причинно-значимым пищевым аллергенам, %. Здесь и на рис. 3: ДБЭ ― дистрофический буллёзный эпидермолиз; ПБЭ ― простой буллёзный эпидермолиз.
Fig. 2. Frequency of detection of allergen-specific IgE to causally significant food allergens, %. Here and in Fig. 3: ДБЭ ― dystrophic epidermolysis bullosa; ПБЭ ― simple epidermolysis bullosa.
Наиболее значимым этиологическим фактором в развитии пищевой аллергии выступали белки животного происхождения, а именно белки коровьего молока, с частотой выявления 21,8% (в группе ДБЭ ― 16,8%, в группе ПБЭ ― 13,0%), яйца ― 4,8% (в группе ДБЭ ― 4,2%, в группе ПБЭ ― 6,5%), в меньшей степени ― различные виды мяса ― 1,8% (в группе ДБЭ ― 1,7%, в группе ПБЭ ― 2,2%).
Белки растительного происхождения также являлись причиной пищевой аллергии. Крупы (пшеница, овсянка, гречка, ячмень) в качестве аллергена выступали в 5,5% случаев (в группе ДБЭ ― 2,5%, в группе ПБЭ ― 13,0%), фрукты (яблоко, банан) ― в 6,0% (в группе ДБЭ ― 5,0%, в группе ПБЭ ― 8,7%).
Пищевая аллергия к двум и более пищевым белкам выявлялась у 8,5% детей (в группе ДБЭ ― у 8,4%, в группе ПБЭ ― у 8,7%), тогда как к одному продукту ― у меньшего числа детей (у 5,5%).
Для большинства детей с установленной пищевой аллергией были характерны высокие уровни общего IgE и наличие аллергенспецифических IgE к причинно-значимым аллергенам, тогда как в группе детей с пищевой аллергией, подтверждённой только клиническими данными и диагностической элиминационной диетой, высокие показатели общего IgE фиксировались реже и коррелировали с тяжестью основного заболевания или сопутствующего атопического дерматита.
Анализ анамнестических данных детей с пищевой аллергией показал, что только 6 детей имели отягощённый наследственный анамнез по аллергическим болезням. Из представленного графика (рис. 3) видно, что отягощённая наследственность характерна преимущественно для детей из группы ПБЭ с IgE-опосредованной пищевой аллергией.
Рис. 3. Отягощённая наследственность по аллергическим болезням у детей в зависимости от форм врождённого буллёзного эпидермолиза и характера пищевой аллергии.
Fig. 3. Burdened heredity for allergic diseases in children, depending on the forms of inherited epidermolysis bullosa and the form of the food allergy.
После выявления значимого аллергена пациентам была назначена элиминационная диетотерапия на срок не менее 6 месяцев, на фоне которой симптомы пищевой аллергии полностью купировались, что способствовало улучшению состояния со стороны кожного процесса.
Нежелательные явления
В настоящем исследовании нежелательных/побочных эффектов не отмечалось.
ОБСУЖДЕНИЕ
Резюме основного результата исследования
Результаты проведённого исследования показали высокую частоту пищевой аллергии среди детей с ВБЭ ― 13,9%. Существенных различий по частоте встречаемости пищевой аллергии среди двух форм ВБЭ не отмечено. Пищевая аллергия выявлена у 13,4% детей с ДБЭ и 15,2% детей с ПБЭ. Однако имеются различия по характеру пищевой аллергии. Так, для детей с ДБЭ наиболее характерными были IgE-опосредованные формы пищевой аллергии без отягощённого атопического фона, тогда как при ПБЭ чаще выявлялась не-IgE-опосредованная форма пищевой аллергии. Высокий уровень общего IgE чаще встречался у детей с ДБЭ.
Обсуждение основного результата исследования
Пищевая аллергия становится всё более серьёзной проблемой, и её распространённость затрагивает всё больше развитых стран, однако получить точные данные о распространённости пищевой аллергии довольно сложно. Распространённость пищевой аллергии по данным самооценки (self-report) может быть завышена по сравнению с результатами, полученными с помощью более точных методов оценки. Так, по данным систематического обзора и метаанализа, опубликованного Европейской академией аллергологии и клинической иммунологии (EAACI), распространённость пищевой аллергии в европейской популяции оценивается в 5,9% (6–8% ― в ранних возрастных группах, 2–4% ― в подростковых), а по данным самооценки (self-report) этой же популяции ― 17,3% [18]. Существующие показатели практически вдвое ниже, чем полученные результаты нашего исследования. Вероятно, что дети с ВБЭ более подвержены воздействию аллергенов не только за счёт обширной площади поражения, но и вследствие особенностей иммунопатогенеза заболевания.
Если рассматривать распространённость пищевой аллергии к отдельным продуктам, то аллергия к белкам коровьего молока, по данным EuroPrevall [22], составляла по усреднённым оценкам 0,54% (из которых около 23,6% составили дети с не-IgE-опосредованной формой, однако реальные результаты могут быть выше), тогда как у детей с ВБЭ аллергия к белкам коровьего молока встречалась гораздо чаще ― в 15,8% случаев (на долю не-IgE-опосредованной формы пришлось 6,1%).
Подобных исследований по изучению вопроса пищевой аллергии на релевантной группе пациентов с ВБЭ в мире не проводилось. Существуют отдельные сообщения, в которых описаны случаи эозинофильных инфильтратов и высоких титров общего IgE [14, 15, 23]. В 2018 году в НМИЦ здоровья детей впервые был обобщён опыт наблюдения за небольшой группой детей с ВБЭ и пищевой аллергией [14]. По результатам, дети с дистрофической формой ВБЭ чаще имеют клинические проявления пищевой аллергии, чем пациенты с простой формой заболевания. Однако полученные результаты нашего исследования статистически значимых различий по частоте пищевой аллергии между двумя группами ВБЭ не выявили. Тем не менее в группе детей с ДБЭ в большинстве случаев диагноз пищевой аллергии был подтверждён выявлением соответствующих аллергенспецифических IgE, тогда как для группы с ПБЭ характерна не-IgE-опосредованная форма пищевой аллергии. Отягощённая наследственность по аллергическим заболеваниям также была характерна для детей с ПБЭ, тогда как больные ДБЭ не имели типичного атопического фона. Ранее опубликованные нами данные продемонстрировали высокую частоту пищевой сенсибилизации к различным группам аллергенов у детей с ДБЭ [21]. Полученные результаты обоих исследований могут согласовываться с уже существующими данными участия воспалительного иммунного ответа 2-го типа в структуре общего иммунопатогенеза ВБЭ. Так, с учётом характера и площади поражения процессы воспаления и заживления ран у больных ВБЭ, в которых одна из основных ролей приходится на Th2-клетки, протекают более активно [9]. В результате этого происходит более интенсивная экспрессия T2-ассоциированных медиаторов воспаления, которые в свою очередь могут влиять на усиление зуда и приводить к дополнительному поражению кожи, а также к персистенции воспалительного ответа 2-го типа. Учитывая, что дистрофическая форма ВБЭ характеризуется большей площадью поражения кожных покровов и слизистых оболочек, процессы воспаления и заживления, протекающие в коже, приводят к более интенсивной активации клеток Тh2, а следовательно, T2-ассоциированному иммунному ответу, который характерен для всех аллергических заболеваний, в том числе пищевой аллергии. Это становится патогенетической основой более высокого риска развития коморбидной пищевой аллергии.
Ограничения исследования
Ограничениями данного исследования были неоднородный возрастной состав исследуемых групп ввиду малого размера выборки и отсутствие возможности определения аллергенспецифических IgE ко всем пищевым, бытовым и эпидермальным аллергенам, тем не менее это не являлось необходимым для формирования выводов по результатам настоящего исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ВБЭ ― редкое заболевание с распространённостью, по усреднённым данным, 2,6 на 100 000 и высокой летальностью, что является довольно узкой, но не менее важной темой для изучения. Ранее вопросы пищевой аллергии у данной группы больных подробно не изучались и не анализировались. Тяжёлое течение ВБЭ с характерными для него осложнениями маскирует проявления пищевой аллергии и затрудняет её диагностику. Высокий процент встречаемости пищевой аллергии среди детей с данным заболеванием, вероятно, можно объяснить особенностью состояния кожного покрова и слизистых оболочек, чрезмерным воздействием антигенов, в том числе пищевых, и, как следствие, развитием клинически значимой пищевой сенсибилизации.
Согласно полученным нами данным, коморбидность пищевой аллергии и ВБЭ приводит к утяжелению течения основного заболевания, возможно, именно из-за недостаточной выявляемости. В то же время при доказанной пищевой аллергии исключение из рациона таких детей причинно-значимых пищевых аллергенов значительно повышает качество их диетологического сопровождения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования и подготовке публикации.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: А.А. Галимова ― концепция и дизайн исследования, консультация пациентов, сбор и анализ литературных источников, обработка материала, статистический анализ, написание текста; С.Г. Макарова ― концепция и дизайн исследования, консультация пациентов, редактирование текста статьи; Н.Н. Мурашкин ― концепция и дизайн исследования, лечение.
Благодарности. Авторы выражают признательность фонду «БЭЛА. Дети-бабочки» за финансовую поддержку обследования и лечения детей с врождённым буллёзным эпидермолизом.
ADDITIONAL INFORMATION
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. A.A. Galimova ― study concept and design, consultation of patients, collection and analysis of literary sources, material processing, statistical analysis, text writing; S.G. Makarova ― study concept and design, consultation of patients, editing; N.N. Murashkin ― study concept and design, treatment.
Acknowledgments. The authors express their gratitude to the “BELA. Butterfly children” Foundation for financial support for the examination and treatment of children with inherited epidermolysis bullosa.
About the authors
Albina A. Galimova
National Medical Research Center for Children’s Health
Author for correspondence.
Email: albina86@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-6701-3872
SPIN-code: 2960-6185
Россия, Moscow
Svetlana G. Makarova
National Medical Research Center for Children’s Health; Lomonosov Moscow State University
Email: sm27@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-3056-403X
SPIN-code: 2094-2840
MD, Dr. Sci. (Med.)
Россия, Moscow; MoscowNikolay N. Murashkin
National Medical Research Center for Children’s Health; The First Sechenov Moscow State Medical University (Sechenov University); Central State Medical Academy of Department of Presidential Affairs
Email: m_nn2001@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2252-8570
SPIN-code: 5906-9724
MD, Dr. Sci. (Med.), Professor
Россия, Moscow; Moscow; MoscowReferences
- Mariath LM, Santin JT, Schuler-Faccini L, Kiszewski AE. Inherited epidermolysis bullosa: update on the clinical and genetic aspects. An Bras Dermatol. 2020;95(5):551–569. doi: 10.1016/j.abd.2020.05.001
- Fine JD. Epidemiology of inherited epidermolysis bullosa based on incidence and prevalence estimates from the national epidermolysis bullosa registry. JAMA Dermatol. 2016;152(11): 1231–1238. doi: 10.1001/jamadermatol.2016.2473
- Has C, Fischer J. Inherited epidermolysis bullosa: New diagnostics and new clinical phenotypes // Exp Dermatol. 2019. Vol. 28. N 10. Р. 1146–1152. doi: 10.1111/exd.13668
- Epidermolysis bullosa: A guide for doctors. Ed. by N.N. Murashkin, L.S. Namazova-Baranova. Moscow: Pediatr; 2019. 443 р. (In Russ).
- So JY, Joyce T. Epidermolysis bullosa simplex. In: GeneReviews [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993. [updated 2022 Aug 4].
- Atherton D, Denyer J. Epidermolysis bullosa: An outline for professionals. DebRA, Berkshire; 2002. Р. 37–71.
- Horn HM, Tidman MJ. Quality of life in epidermolysis bullosa. Clin Exp Dermatol. 2002;27(8):707–710. doi: 10.1046/j.1365-2230.2002.01121.x
- Bachir Y, Daruich A, Marie C, et al. Eye involvement and management in inherited epidermolysis bullosa. Drugs. 2022;82(12):1277–1285. doi: 10.1007/s40265-022-01770-8
- Epishev RV. Nutritional support for children with congenital epidermolysis bullosa. [dissertation abstract]. Moscow; 2018. 26 р. (In Russ).
- Papanikolaou M, Onoufriadis A, Mellerio JE, et al. Prevalence, pathophysiology and management of itch in epidermolysis bullosa. Br J Dermatol. 2021;184(5):816–825. doi: 10.1111/bjd.19496
- Nakashima C, Ishida Y, Kitoh A, et al. Interaction of peripheral nerves and mast cells, eosinophils, and basophils in the development of pruritus. Exp Dermatol. 2019;28(12):1405–1411. doi: 10.1111/exd.14014
- Steinhoff M, Schmelz M, Szabó IL, Oaklander AL. Clinical presentation, management, and pathophysiology of neuropathic itch. Lancet Neurol. 2018;17(8):709–720. doi: 10.1016/S1474-4422(18)30217-5
- Chen F, Guo Y, Zhou K, et al. The clinical efficacy and safety of anti-IgE therapy in recessive dystrophic epidermolysis bullosa. Clin Genet. 2022;101(1):110–115. doi: 10.1111/cge.14062
- Makarova SG, Namazova-Baranova LS, Murashkin NN, et al. Food allergy in children with inherited epidermolysis bullosa. The results of the observational study. Ann Russ Academy Medical Sciences. 2018;73(1):49–58. (In Russ). doi: 10.15690/vramn847
- Saraiya A, Yang CS, Kim J, et al. Dermal eosinophilic infiltrate in junctional epidermolysis bullosa. J Cutan Pathol. 2015;42(8): 559–563. doi: 10.1111/cup.12521
- Izadi N, Luu M, Ong Y., Tam JS. The role of skin barrier in the pathogenesis of food allergy. Children (Basel). 2015;2(3):382–402. doi: 10.3390/children2030382
- Clinical recommendations. Inherited bullous epidermolysis. Moscow; 2020. (In Russ).
- Muraro A, Roberts G, Worm M, et al. Anaphylaxis: Guidelines from the European academy of allergy and clinical immunology. Allergy. 2014;69(8):1026–1045. doi: 10.1111/all.12437
- Clinical recommendations. Food allergy. The Union of Pediatricians of Russia; 2021. (In Russ).
- Freeman EB, Köglmeier J, Martinez AE, et al. Gastrointestinal complications of epidermolysis bullosa in children. Br J Dermatol. 2008;158(6):1308–1314. doi: 10.1111/j.1365-2133.2008.08507.x
- Galimova AA, Makarova SG, Murashkin NN, Snovskaya MA. Comorbid food allergy in patients with congenital epidermolysis bullosa. Med Alphabet. 2023;(8):82–85. (In Russ). doi: 10.33667/2078-5631-2023-8-82-85
- Schoemaker AA, Sprikkelman AB, Grimshaw KE, et al. Incidence and natural history of challenge-proven cow’s milk allergy in European children: EuroPrevall birth cohort. Allergy. 2015;70(8): 63–972. doi: 10.1111/all.12630
- Chen F, Guo Y, Zhou K, et al. The clinical efficacy and safety of anti-IgE therapy in recessive dystrophic epidermolysis bullosa. Clin Genet. 2022;101(1):110–115. doi: 10.1111/cge.14062
Supplementary files