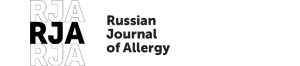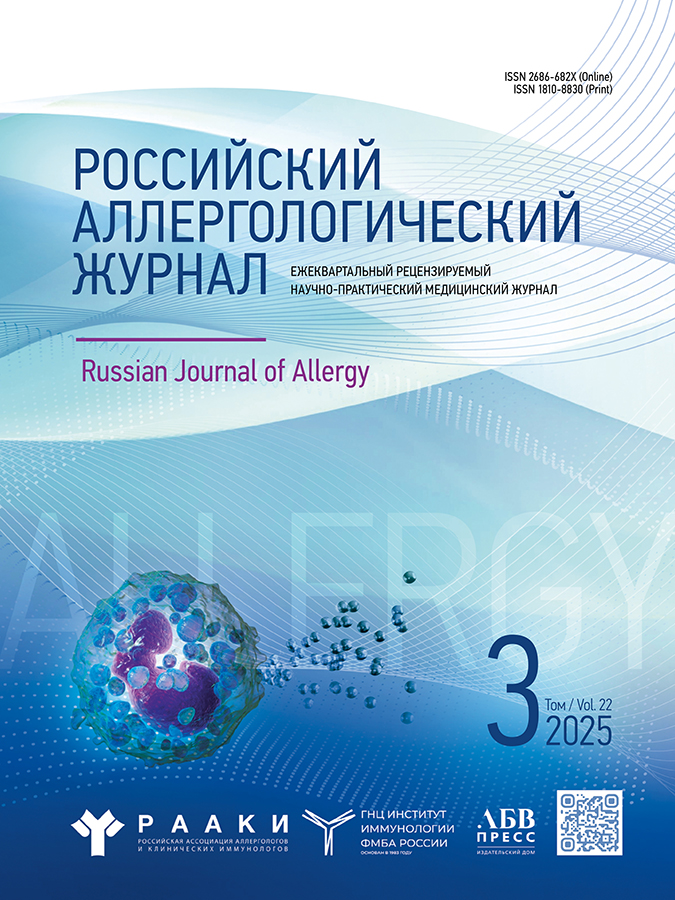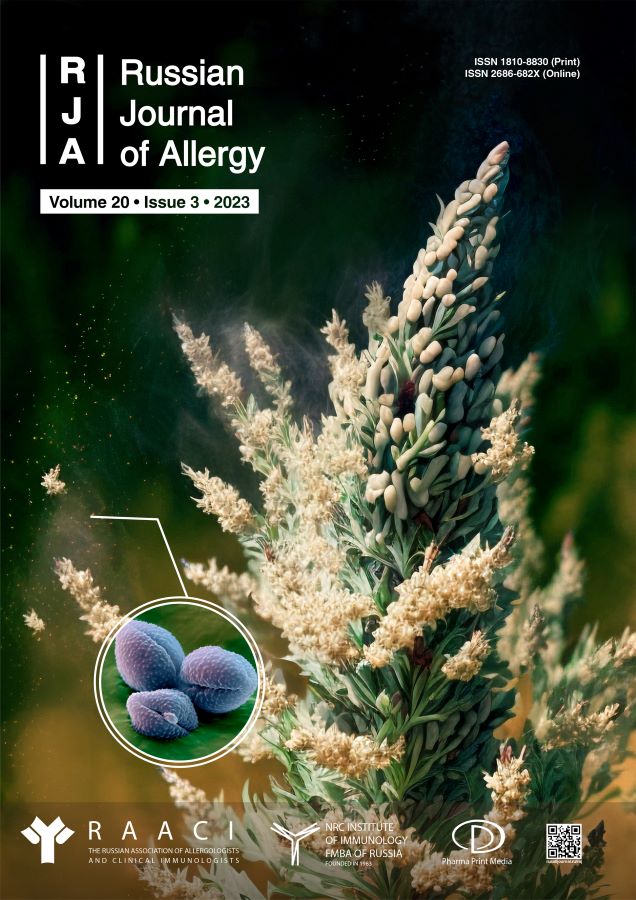Case of newly diagnosed primary immunodeficiency at age 65
- Authors: Demko I.V.1,2, Sobko E.A.1,2, Shestakova N.A.1,2, Kraposhina A.Y.1,2
-
Affiliations:
- Professor V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University
- Krasnoyarsk Clinical Regional Hospital
- Issue: Vol 20, No 3 (2023)
- Pages: 366-372
- Section: Case reports
- Submitted: 04.03.2023
- Accepted: 19.07.2023
- Published: 18.10.2023
- URL: https://rusalljournal.ru/raj/article/view/7281
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA7281
- ID: 7281
Cite item
Full Text
Abstract
Low awareness of doctors of various specialties about such an initial defect in immunity as hereditary angioedema leads to poor detection of this disease, as a result of which patients often receive ineffective drugs for a long time and are at risk of developing life-threatening complications.
A clinical case was presented of a patient whose diagnosis of hereditary angioedema was first established at the age of 65 despite a long history of edema. There were no urticarial rashes. For edema for 3 years, the patient took Loratadine, systemic glucocorticosteroids were repeatedly administered. In addition, for many years she was worried about abdominal syndrome with an episode rate of up to several times a week, for the purpose of stopping which she used Tempalgin. There is a burdened family history of angioedema. This hospitalization was due to the development of edema of the lower lip and left cheek, the appearance of which is associated with a bite of the inner side of the cheek in sleep, there was no effect from the use of systemic glucocorticosteroids and antihistamines. The examination revealed a decrease in both the amount and functional activity of the C1-inhibitor, thus, hereditary angioedema of type I was diagnosed. Genetic examination revealed a previously undescribed variant of mutations in the SERPING1 gene.
The pathogenesis of edema in hereditary angioedema is due to the accumulation of bradykinin, therefore, the use of glucocorticosteroids and antihistamines is ineffective. Currently, there are modern highly effective and safe means, both for stopping and for the prevention of such edema.
It is important to inform specialists of various profiles about this disease and the principles of its therapy.
Full Text
АКТУАЛЬНОСТЬ
Ангиоотёк ― это локализованный, остро возникающий, транзиторный, склонный к рецидивированию отёк кожи/подкожной клетчатки или слизистых/подслизистых оболочек [1]. Ключевую роль в развитии ангиоотёка могут играть различные вазоактивные вещества, такие как гистамин, триптаза, простагландин, брадикинин, которые приводят к обратимому увеличению проницаемости эндотелия. Обычно проявления сохраняются от нескольких часов до нескольких дней и в большинстве случаев проходят бесследно, без дополнительной терапии [2].
Среди ангиоотёков различной природы выделяют наследственный ангионевротический отёк (НАО), на долю которого приходится примерно 2% клинических случаев ангионевротического отёка. Частота встречаемости НАО ― 1 на 50 000–150 000 населения [3].
НАО относится к первичным дефектам иммунитета и проявляется в виде ангиоотёков кожи и слизистых/подслизистых оболочек, возникающих под воздействием брадикинина, накопление которого обусловлено дефицитом С1-ингибитора (С1-ИНГ) в результате снижения его синтеза или функциональной активности. Причиной дефицита С1-ИНГ являются мутации в гене SERPING1. В большинстве случаев заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу, однако описаны варианты аутосомно-рецессивного наследования и случаи компаунд-гетерозиготных доминантных патогенных вариантов. У части пациентов мутация в гене SERPING1 возникает впервые [4].
Характерными особенностями ангиоотёка при НАО являются отсутствие зуда, гиперемии кожи, сопутствующей крапивницы и эффекта от лечения системными кортикостероидами и антигистаминными препаратами [1, 5].
При этом заболевании возможно развитие отёков любой локализации, они обычно медленно нарастают, часто имеют предвестники и самостоятельно регрессируют в течение 2–4 суток. Жизнеугрожающими являются ангиоотёки в области гортани, языка, связочного аппарата и мягкого нёба. При осмотре отёк бледный и плотный на ощупь. Провоцирующими факторами отёков при НАО являются любые механические воздействия; стресс; острые инфекции; декомпенсация сопутствующей патологии; менструация; беременность; лактация; приём препаратов, содержащих эстрогены, а также ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента, антагонистов рецепторов ангиотензина II [6].
ОПИСАНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ
О пациенте
Пациентка Ш., 65 лет, поступила в аллергологическое отделение КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница» 11 сентября 2022 года с жалобами на отёк нижней губы и левой щеки, не сопровождающийся зудом.
Анамнез заболевания. Боли в животе беспокоят с детского возраста с частотой эпизодов 1–2 раза в год, болевой синдром неинтенсивный, к врачам не обращалась. В 16 лет впервые без видимой причины возникли выраженные боли в животе. Следующий эпизод таких болей развился через 2 недели после родов, с этого времени увеличилась их интенсивность и частота (стали возникать 1–2 раза в месяц). При этом интенсивные боли беспокоят в течение первых 2 дней, затем они ослабевают и продолжаются в течение 4–7 дней. Для их купирования принимает Темпалгин (до 3 таблеток в месяц).
Ангиоотёки с локализацией в области лица, конечностей рецидивируют в течение 20 лет, отмечает несколько эпизодов в год, по поводу чего в течение 3 лет постоянно принимает лоратадин. Периодически обращалась в скорую медицинскую помощь или поликлинику по месту жительства, назначались системные глюкокортикостероиды, отёки проходили в течение 7 дней. Уртикарных высыпаний не отмечала.
У пациентки эпизодически возникают незудящие красные пятна на туловище и конечностях, которые она связывает с употреблением различных продуктов; длятся от одного до несколько дней и проходят самостоятельно.
Настоящее ухудшение с утра 11 сентября, когда после пробуждения заметила отёк нижней губы и левой щеки, что связала с прикусом внутренней стороны щеки во сне. Приняла 1 таблетку лоратадина, отёк не купировался, самостоятельно обратилась в приёмное отделение КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница». Введён дексаметазон внутривенно и хлоропирамин внутримышечно, чёткого эффекта не отмечено. Больная госпитализирована в стационар.
Сопутствующие заболевания. Гипертоническая болезнь III степени, риск IV (постоянно принимает амлодипин 5 мг, индапамид 1,5 мг, аторвастатин). Ожирение II. Хронический панкреатит. Вторичный гиперпаратиреоз.
Перенесённые оперативные вмешательства: аппендэктомия, холецистэктомия, удаление камня почки.
Аллергологический анамнез. Эквивалентов аллергии на бытовые, эпидермальные, растительные, пищевые аллергены не отмечала. Лекарственные препараты переносит все. Отмечала развитие отёков при укусах перепончатокрылых.
Семейный анамнез. Рецидивирующие ангиоотёки у тёти. Не курит. Алкоголем не злоупотребляет. Наркотики не употребляет.
Результаты физикального, лабораторного и инструментального исследований
Данные физикального осмотра. Сознание ясное. Состояние относительно удовлетворительное. Положение активное. Телосложение гиперстеническое. Масса тела 83,0 кг. Рост 150 см. Индекс массы тела 36,9 кг/м2. Кожные покровы чистые, нормальной влажности, нормальной окраски. Отёк нижней губы, левой щеки. Носовое дыхание свободное. Грудная клетка правильной формы. Перкуторный звук ясный, лёгочный. При аускультации дыхание везикулярное, проводится над всеми лёгочными полями, хрипы не выслушиваются. Частота дыхания 17 в 1 минуту, уровень насыщения крови кислородом (SaO2) 98%. Тоны сердца приглушены, ритм правильный, частота сердечных сокращений 62 удара в 1 минуту. Артериальное давление 118/80 мм рт.ст. Язык обложен беловатым налётом. Живот не вздут, участвует в акте дыхания, при пальпации мягкий, безболезненный во всех отделах. Печень безболезненная, по краю рёберной дуги. Стул не нарушен. Почки не пальпируются. Мочеиспускание не нарушено. Симптом XII ребра отрицательный с обеих сторон. Отмечается пастозность голеней.
Лабораторно-инструментальные данные. Анализ крови без особенностей. В общем анализе мочи лейкоциты до 12 в поле зрения. С-реактивный белок 7,40 мг/л (норма 0,00–5,00).
Антитела к вирусу иммунодефицита человека (HIV1/2) и антиген p24, маркеры гепатитов В и С отрицательные.
Показатели функции печени и поджелудочной железы, тиреотропный гормон, свободный тироксин, кальций крови и кальций мочи за сутки в пределах нормативных значений.
Паратиреоидный гормон 105,90 пг/мл (норма 15,00–68,30).
Паразиты в кале не найдены.
Рентгенография органов грудной клетки: сердце и лёгкие без патологии.
Ультразвуковое исследование. Диффузные изменения в печени и поджелудочной железе. Кисты почек. Слева у нижнего полюса щитовидной железы образование повышенной эхогенности, с чёткими ровными контурами, размером 0,8×0,7 см.
Фиброгастроскопия. Дуоденогастральный рефлюкс. Диффузный поверхностный гастрит с признаками атрофии слизистой оболочки. Эпителиальные образования желудка (по результатам гистологического исследования ― полип). Недостаточность кардии.
В течение 2 дней после исследования пациентку беспокоил дискомфорт в горле. Тембр голоса не менялся. ЛОР-врач в этот период больную не осматривал.
На этапе стационарного лечения у пациентки появились боли в животе, жидкий стул. Повторно проведено ультразвуковое исследование органов брюшной полости. Заключение: «Эхокартина без динамики. При обзорном сканировании брюшной полости свободная жидкость, отграниченных жидкостных скоплений, дополнительных образований достоверно не определяется. Во всех отделах визуализируются петли кишечника с газом, стенку кишечника достоверно оценить не представляется возможным. В плевральных полостях жидкость достоверно не определяется».
Предварительный и основной диагнозы
Диагностировано обострение хронического панкреатита, назначались спазмолитики, ферменты поджелудочной железы. Болевой синдром купирован в течение нескольких дней. Учитывая клиническую картину отёков, рецидивирующие абдоминальные боли, амбулаторно было рекомендовано провести обследование с целью исключения НАО.
При дообследовании в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева» Минздрава России методом нефелометрии выявлено: С1-ингибитор количественный 0,0593 г/л (норма 0,21–0,43); С1-ингибитор функциональный 27% (норма 70–130). Повторное исследование через 2,5 месяца: С1-ингибитор количественный 0,054 г/л (норма 0,21–0,43); С1-ингибитор функциональный 8% (норма 70–130).
В ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» проведено исследование ДНК на наличие мутаций в гене SERPING1 (C1NH), ответственных на развитие НАО типа I и II. В результате прямого секвенирования по Сэнгеру всех экзонов (1–8) и областей экзон-интронных соединений гена SERPING1 обнаружен неописанный ранее вариант с неопределённым клиническим значением с.1001А>С (р.(Leu334Pro)) в гетерозиготном состоянии (21.10.2022).
Проведено исследование ДНК на наличие протяжённых делеций/дупликаций экзонов гена SERPING1 (NM_000062). Методом количественной мультиплексной лигазозависимой амплификации (MLPA) экзонов 1–8 гена SERPING1 изменения числа копий последовательности не обнаружены (14.11.2022).
ОБСУЖДЕНИЕ
Уникальностью описанного случая является поздняя постановка диагноза первичного дефекта иммунитета ― в 65 лет, несмотря на наличие симптомов в течение длительного времени и семейного анамнеза. Причину отёков искали в употреблении различных продуктов, укусах насекомых. Пациентка продолжительное время принимала антигистаминные препараты, многократно вводились системные глюкокортикоиды при отсутствии чёткого эффекта от такой терапии. Абдоминальные атаки принимали за симптомы панкреатита и назначали соответствующее лечение. Поздняя диагностика НАО у данной пациентки, вероятнее всего, связана с отсутствием осведомлённости врачей-терапевтов о данном заболевании. Кроме того, предполагая в первую очередь отёк аллергической природы, так как он гораздо чаще встречается в клинической практике, они выясняют связь его возникновения с различными аллергенами и редко собирают семейный анамнез по ангиоотёкам.
Согласно современным представлениям, выделяют два варианта НАО с дефицитом С1-ИНГ: I типа, обусловленного снижением количества и функциональной активности С1-ИНГ в плазме (85% всех случаев НАО), и II типа, когда выявляется снижение только функциональной активности С1-ИНГ при нормальном или повышенном уровне С1-ИНГ [5].
У нашей пациентки в связи с выявленным снижением как количества, так и функциональной активности С1-ИНГ был диагностирован НАО I типа. При генетическом обследовании был обнаружен не описанный ранее вариант мутаций в гене SERPING1. По данным литературы, вновь возникшие мутации в гене SERPING1 выявляются в 20–25% случаев НАО [4, 7]. Однако, выявив снижение количества или функциональной активности С1-ИНГ в 2 исследованиях с интервалом не менее 1 месяца, пациенту уже выставляется диагноз НАО. Генетическое исследование применяется в качестве дополнительного метода подтверждения диагноза; кроме того, генетические тесты важны для диагностики НАО у родственников больного с целью уточнения у них наличия НАО в доклинической фазе [4, 7].
Терапия данного заболевания на современном этапе предполагает 3 основных направления в зависимости от частоты, тяжести и локализации отёков, а также необходимости профилактики их развития при оперативных вмешательствах, инвазивных медицинских исследованиях и пр.
Проведение различных инвазивных медицинских исследований, стоматологических процедур у таких больных несёт риски развития жизнеугрожающих отёков при отсутствии подготовки соответствующими препаратами. Нашу пациентку после проведения фиброгастроскопии беспокоил дискомфорт в горле, который связывали с возможной травматизацией слизистой оболочки, однако, вероятнее всего, процедура спровоцировала у неё развитие отёка, который не был диагностирован. Выраженность отёка после таких манипуляций может быть различна, в том числе приводить к асфиксии.
Терапия НАО включает в себя купирование отёков, краткосрочную и долгосрочную профилактику.
Исторически для лечения использовались свежезамороженная плазма как донатор ингибитора С1-эстеразы, даназол и прогестагены, увеличивающие содержание ингибитора С1-эстеразы, а также транексамовая кислота, ингибирующая активацию плазминогена.
В настоящее время в России пациентам с НАО назначаются современные высокоэффективные и безопасные препараты, в частности препарат заместительной терапии, полученный из донорской крови, ингибитор С1-эстеразы человека Беринерт; синтетический высокоселективный антагонист брадикининовых рецепторов 2-го типа икатибант; человеческое моноклональное антитело (IgG1/κ ― лёгкая цепь) ланаделумаб, связывающее калликреин плазмы и ингибирующее его протеолитическую активность [8–10].
Пациентке в нашем описании, учитывая частоту ангиоотёков, их локализацию (в том числе жизнеугрожающие в области головы), рекомендовано при возникновении жизнеугрофающих отёков в области головы, шеи и выраженного абдоминального синдрома применение икатибанта в дозе 30 мг подкожно. В случае рецидивирующего приступа НАО ― повторное введение икатибанта в дозе 30 мг через 6 часов или С1-ингибитор эстеразы человека в дозе 20 МЕ/кг (с учётом массы тела 83,0 кг). При отсутствии ингибитора С1-эстеразы человека или икатибанта следует начинать с внутривенного введения 250 мл (500 мл) свежезамороженной плазмы. В качестве премедикации при срочном оперативном вмешательстве использовать С1-ингибитор эстеразы человека 20 МЕ/кг внутривенно или свежезамороженную плазму 250 мл за 1–6 часов до процедуры при его отсутствии. При этом пациентка должна быть госпитализирована в многопрофильный стационар, где необходимо обеспечить наличие препаратов для купирования жизнеугрожающих отёков во время проведения оперативного вмешательства. Для купирования отёков не использовались антигистаминные препараты, системные глюкокортикоиды, эпинефрин ввиду отсутствия эффективности. Запрещено использование ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента / блокаторов рецепторов ангиотензина, эстрогенсодержащих препаратов. Учитывая наличие у нашей пациентки гипертонической болезни, ей могли быть назначены ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента или блокаторы рецепторов ангиотензина в связи с отсутствием своевременной диагностики НАО, что могло привести к развитию фатального отёка.
Наличие современных высокоэффективных препаратов позволяет уменьшить частоту и интенсивность атак НАО и минимизировать влияние заболевания на повседневную активность пациента.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Важность ранней диагностики НАО предполагает повышение осведомлённости о заболевании не только врачей аллергологов-иммунологов, но и специалистов первичного звена, а также узких специалистов. Раннее назначение патогенетических препаратов позволит избежать приёма ненужных лекарственных средств, снизит риски смертельных исходов и повысит качество жизни таких пациентов.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении работы и подготовке рукописи.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение работы и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: И.В. Демко ― редактирование статьи; Е.А. Собко ― курация пациента, редактирование статьи; Н.А. Шестакова ― сбор и анализ литературных источников, подготовка и написание текста статьи; А.Ю. Крапошина ― обзор литературы, написание текста и редактирование статьи.
Информированное согласие на публикацию. Пациентка добровольно подписала информированное согласие на публикацию персональной медицинской информации в обезличенной форме в «Российском аллергологическом журнале».
ADDITIONAL INFORMATION
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. I.V. Demko ― editing the article; E.A. Sobko ― patient supervision, article editing; N.A. Shestakova ― collection and analysis of literary sources, preparation and writing of the text of the article; A.Yu. Kraposhina ― literature review, writing and paper editing.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patient for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript in Russian Journal of Allergy.
About the authors
Irina V. Demko
Professor V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University; Krasnoyarsk Clinical Regional Hospital
Email: demko64@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8982-5292
SPIN-code: 6520-3233
MD, Dr. Sci. (Med.), Professor
Россия, Krasnoyarsk; KrasnoyarskElena A. Sobko
Professor V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University; Krasnoyarsk Clinical Regional Hospital
Email: sobko29@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9377-5213
SPIN-code: 9132-6756
MD, Dr. Sci. (Med.), Professor
Россия, Krasnoyarsk; KrasnoyarskNatalia A. Shestakova
Professor V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University; Krasnoyarsk Clinical Regional Hospital
Email: barsk@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0002-2252-7423
SPIN-code: 4579-4502
MD, Cand. Sci. (Med.)
Россия, Krasnoyarsk; KrasnoyarskAngelina Y. Kraposhina
Professor V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University; Krasnoyarsk Clinical Regional Hospital
Author for correspondence.
Email: angelina-maria@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0001-6896-877X
SPIN-code: 8829-9240
MD, Cand. Sci. (Med.), Associate Professor
Россия, Krasnoyarsk; KrasnoyarskReferences
- Draft clinical recommendations. Hereditary angioedema. Moscow; 2022. 62 р. (In Russ).
- Russian Association of Allergists and Clinical Immunologists. Federal clinical guidelines for the diagnosis and treatment of patients with angioedema. Moscow; 2013. 29 р. (In Russ).
- Bork K, Aygören-Pürsün E, Bas M, et al. Guideline: Hereditary angioedema due to C1 inhibitor deficiency. Allergo J. Int. 2019; 28(1):16–29. doi: 10.1007/s40629-018-0088-5
- Santacroce R, D’Andrea G, Maffione AB, et al. The genetics of hereditary angioedema: A review. J Clin Med. 2021;10(9):2023. doi: 10.3390/jcm10092023
- Maurer M, Magerl M, Betschel S, et al. The international WAO/EAACI guideline for the management of hereditary angioedema: The 2021 revision and update. Allergy. 2022;77(7):1961–1990. doi: 10.1111/all.15214
- Zotter Z, Csuka D, Szabó E, et al. The influence of trigger factors on hereditary angioedema due to C1-inhibitor deficiency. Orphanet J Rare Dis. 2014;9(44):1–6. doi: 10.1186/1750-1172-9-44
- Marcelino-Rodriguez I, Callero A, Mendoza-Alvarez A. Bradykinin-Mediated angioedema: An update of the genetic causes and the impact of genomics. Front Genet. 2019;(10):900 doi: 10.3389/fgene.2019.00900
- Cicardi M, Banerji A, Bracho F, et al. Icatibant, a new bradykinin-receptor antagonist, in hereditary angioedema. N Engl J Med. 2010; 363(6):532–541. doi: 10.1056/NEJMoa0906393
- Craig TJ, Rojavin MA, Machnig T, et al Effect of time to treatment on response to C1 esterase inhibitor concentrate for hereditary angioedema attacks. Ann Allergy Asthma Immunol. 2013;111(3): 211–215. doi: 10.1016/j.anai.2013.06.021
- Banerji A, Riedl MA, Bernstein JA, et al. Effect of lanadelumab compared with placebo on prevention of hereditary angioedema attacks. JAMA. 2018;320(20):2108–2121. doi: 10.1001/jama.2018.16773
Supplementary files