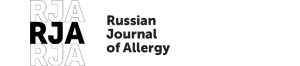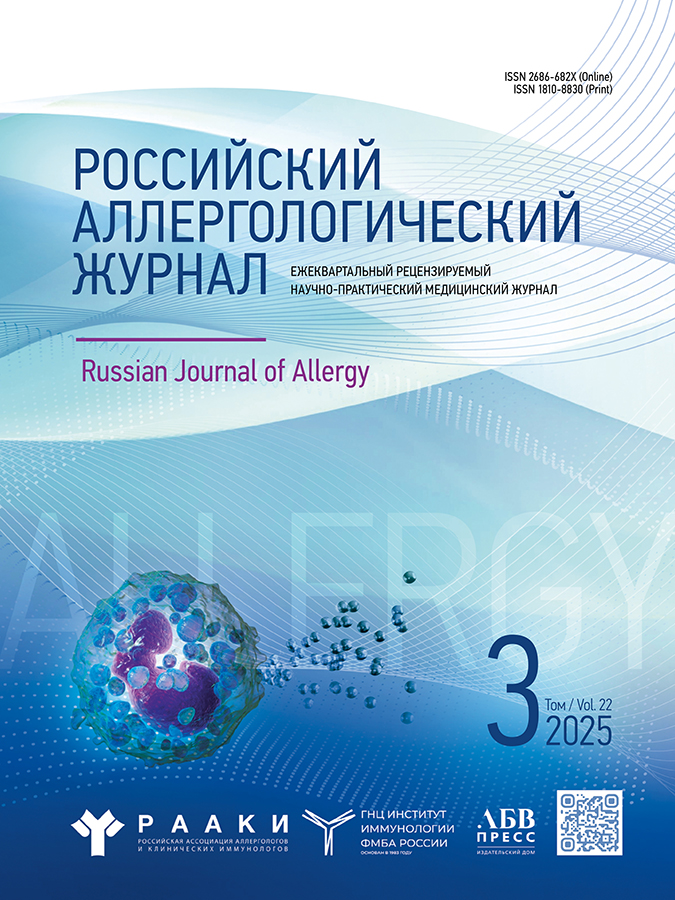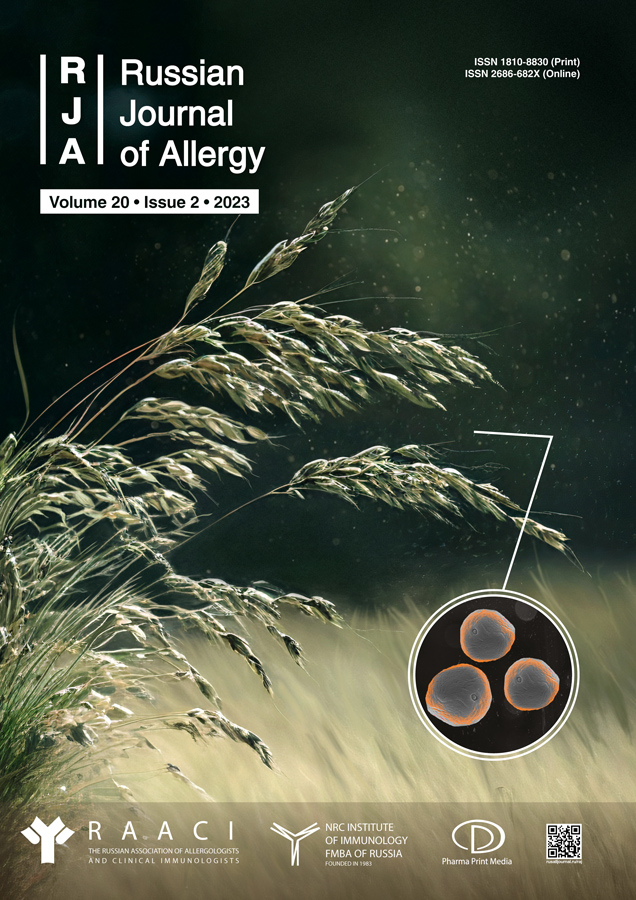Clinical, functional and immunological characteristics of severe bronchial asthma
- Authors: Kraposhina A.Y.1,2, Demko I.V.1,2, Sobko E.A.1,2
-
Affiliations:
- Professor V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University
- Krasnoyarsk Clinical Regional Hospital
- Issue: Vol 20, No 2 (2023)
- Pages: 152-163
- Section: Original studies
- Submitted: 23.02.2023
- Accepted: 10.04.2023
- Published: 09.07.2023
- URL: https://rusalljournal.ru/raj/article/view/6395
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA6395
- ID: 6395
Cite item
Full Text
Abstract
BACKGROUND: Bronchial asthma is one of the most common and socially remarkable diseases in humans. The uncontrolled course of asthma remains a leading problem in the management of patients with this disease. Patients who cannot achieve control include a special group with severe asthma.
AIM: Comprehensive assessment of clinical, functional, and immunological features and the pharmacotherapy of severe bronchial asthma in real clinical practice to optimize basic pathogenetic therapy.
MATERIALS AND METHODS: In all, 83 patients diagnosed with severe asthma were examined. Patients with severe asthma were divided into two groups: patients with and without fixed airway obstruction. Plasma concentrations of interleukin (IL)-4, IL-5, IL-9, IL-13, periostin, cathepsin S, and transforming growth factor (TGF)-β were determined via solid-phase enzyme immunoassay. Immune status was investigated using a NAVIOS flow cytometer.
RESULTS: Both groups of severe bronchial asthma patients showed a decrease in helper T-cell and immunoregulatory index levels with simultaneous increases in cytotoxic T lymphocytes, natural killer T cells, naive T lymphocytes, activated T and B lymphocytes, and phagocytic index compared with the controls. No differences were observed in the immune status between the groups, and the resulting changes were independent of the presence or absence of fixed obstruction. Both study groups exhibited increases in the levels of cathepsin S and TGF-β in the plasma compared with the controls. We identified two remarkable risk factors for forming fixed obstruction: taking SABA more than four inhalations per day (odds ratio (OR)=4.2) and FeNO concentration >20 ppb (OR=6.0). A remarkable improvement was observed in the clinical condition of patients with severe asthma with fixed obstruction while receiving genetically engineered biological therapy for a year.
CONCLUSIONS: To date, no unambiguous explanation is available for the mechanisms of implementation of pathobiochemical reactions in the bronchial wall in severe asthma, leading to the development of fixed airway obstruction. Severe asthma is variable and depends on the correct choice of management tactics.
Full Text
Список сокращений
БА ― бронхиальная астма
ОФВ1 ― объём форсированного выдоха за первую секунду
ТБА ― тяжёлая бронхиальная астма
ФЖЕЛ ― форсированная жизненная ёмкость лёгких
ФОДП ― фиксированная обструкция дыхательных путей
FeNO ― оксид азота в выдыхаемом воздухе
ОБОСНОВАНИЕ
Бронхиальная астма (БА) является наиболее распространённым и социально значимым заболеванием человека [1]. Несмотря на значительный прорыв в разработке лекарственных препаратов, неконтролируемое течение БА остаётся лидирующей проблемой в ведении пациентов с данным заболеванием. Среди пациентов, которые не могут достичь контроля, особую группу составляют пациенты с тяжёлой БА (ТБА). У этой категории больных терапия IV и V ступеней, согласно рекомендациям Глобальной инициативы по лечению и профилактике астмы (Global Initiative for Asthma, GINA), оказывается неэффективной, несмотря на высокую приверженность к лечению, правильную технику ингаляции и лечение сопутствующей патологии, что требует углублённого изучения особенностей патогенеза и клинических характеристик течения астмы.
На долю тяжёлой неконтролируемой астмы, которой страдают до 5–10% пациентов с ТБА, приходится более 50% расходов здравоохранения, однако заболеваемость в России, согласно результатам фармакоэпидемиологических исследований, значительно превышает данные официальной статистики [2]. ТБА плохо поддаётся лечению, о чём свидетельствует низкий процент пациентов, достигающих хорошего контроля над заболеванием [3]. Большое число описанных признаков и симптомов, физиологических изменений и особенностей воспаления дыхательных путей при ТБА указывает на то, что это не отдельное заболевание, а состояние, включающее различные фенотипы и эндотипы.
Безусловно, точная верификация фенотипа и эндотипа БА может вызывать ряд трудностей, которые объясняются, с одной стороны, неравнозначным оснащением различных лечебных учреждений, с другой ― высокой инвазивностью некоторых методов исследования, например бронхобиопсии [4]. Традиционное фенотипирование БА классифицирует пациентов по следующим клиническим особенностям: триггерные факторы (аллергены, физические упражнения, перенесённые инфекции), возраст начала, сопутствующие заболевания (патологии верхних дыхательных путей и ожирение), ответ на лечение и зависимость от приёма системных глюкокортикостероидов [5]. На сегодняшний день выделено пять основных фенотипов БА: аллергическая, неаллергическая, с поздним дебютом, с фиксированной обструкцией дыхательных путей и у людей с ожирением [5]. Каждый фенотип имеет свои особенные клинико-функциональные и лабораторные характеристики, тем не менее имеются данные, что признаки двух и более фенотипов выявляются у одного пациента в 83% случаев [6].
В одном из исследований среди пациентов с фиксированной обструкцией дыхательных путей (ФОДП) критериям ТБА соответствовали 71,7%, в то время как среди пациентов без ФОДП ― только 4,5% [7]. Развитие фиксированной обструкции ассоциировано с худшим, а порой и фатальным прогнозом, причём важно помнить, что ухудшение спирометрических показателей само по себе значительно снижает качество жизни [8, 9]. Степень ремоделирования дыхательных путей положительно коррелирует с тяжестью заболевания [10].
Стратификация пациентов по воспалительному эндотипу признана основой для разработки стратегий лечения астмы [11, 12]. Существует два основных эндотипа БА в зависимости от пути реализации воспалительного ответа дыхательных путей: БА с высоким уровнем 2-го типа (Т2) и БА с низким уровнем Т2 [13]. Цитокины 2-го типа активно привлекают эозинофилы, тучные клетки и базофилы в дыхательные пути и напрямую индуцируют синтез IgE, что усиливает выработку слизи, способствует развитию субэпителиального фиброза и ремоделированию бронхов [14]. Т2 высокий эндотип БА демонстрирует хороший ответ на терапию системными глюкокортикостероидами, и его биомаркеры воспаления легко определяются [15].
Большая часть пациентов с ТБА относится к T2-эндотипу и имеет эозинофильное воспаление в слизистой оболочке нижних дыхательных путей, в формировании которого участвуют Th2-лимфоциты и врождённые лимфоидные клетки 2-го типа (ILC2), генерирующие цитокины Т2-профиля ― интерлейкины (interleukin, IL) 4, 5 и 13.
Менее изученным эндотипом является второй, с низким уровнем Т2 воспаления. Известно, что он ассоциирован с нейтрофильным или малогранулоцитарным воспалительным паттерном, поддерживаемым IL-8, IL-17, IL-22 и другими цитокинами, связанными с Т-клетками [16, 17].
Таким образом, определение фенотипов и эндотипов БА в клинической практике, а также изучение и определение точных молекул, воздействие на которые позволит достичь клинической ремиссии, является одной из основных задач современной пульмонологии.
Цель исследования ― комплексная оценка клинико-функциональных, иммунологических особенностей и фармакотерапии ТБА в реальной клинической практике для оптимизации базисной патогенетической терапии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Проведено наблюдательное одноцентровое проспективное выборочное неконтролируемое когортное исследование.
Критерии соответствия
Критерии включения: БА тяжёлого течения; возраст 18–70 лет; приверженность базисной терапии; возможность правильного использования базисных препаратов; объём базисной терапии, соответствующий IV–V ступени GINA (2020).
Критерии исключения: БА лёгкой и средней степени тяжести; хроническая обструктивная болезнь лёгких; курение на момент исследования; злокачественные новообразования в анамнезе; тяжёлая почечная и печёночная недостаточность; цереброваскулярные заболевания; острые и хронические воспалительные заболевания в фазе обострения; заболевания сердечно-сосудистой системы в стадии декомпенсации; беременность, кормление грудью.
Критерии включения в контрольную группу: отсутствие хронических заболеваний; отсутствие признаков острых заболеваний в течение последнего месяца; неотягощённая по БА и другим аллергическим заболеваниям наследственность; отрицательный аллергологический анамнез; отсутствие аллергических заболеваний у кровных родственников.
Условия проведения
Исследование выполнено на базе отделения аллергологии лёгочно-аллергологического центра КГБУЗ «Красноярская краевая клиническая больница».
Продолжительность исследования
Исследование выполнено в период с 2020 по 2023 год.
Описание медицинского вмешательства
В исследование отобраны пациенты с диагнозом ТБА. Контрольную группу составили практически здоровые добровольцы.
Все пациенты получали регулярную базисную терапию V ступени и соответствовали следующим критериям ТБА: правильная техника ингаляции, приверженность лечению, компенсированная сопутствующая патология, правильно выставленный диагноз.
В день визита в клинику обследование пациентов включало сбор анамнестических данных, заполнение опросника по контролю над БА (Asthma Control Questionnaire, ACQ-5), физикальный осмотр, анализ крови натощак, измерение уровня оксида азота (FeNO) в выдыхаемом воздухе, спирометрию с использованием бронхолитического препарата.
Венозную кровь в объёме 15 мл брали из кубитальной вены пациента в пробирки типа Vacutainer (BD, США) утром, натощак, после 12-часового голодания, центрифугировали, отделяли плазму. Образцы хранились в рефрижераторе при температуре -18…-20°С не более 1 месяца.
В процессе исследования всем пациентам проведена коррекция базисной терапии. Нами выделена группа пациентов, которым была усилена базисная терапия генно-инженерными препаратами.
Через 1 год приёма таргетной терапии мы оценили динамику клинико-функциональных и лабораторных показателей у больных ТБА.
Основной исход исследования
В ходе исследования проведена комплексная оценка клинико-функциональных, иммунологических особенностей и фармакотерапии ТБА в реальной клинической практике.
Выполнен поиск факторов риска формирования ФОДП у больных ТБА. Осуществлён анализ эффективности генно-инженерной биологической терапии у пациентов с ТБА, а также её влияние на течение ТБА с ФОДП.
Анализ в подгруппах
Обследовано 83 пациента с диагнозом ТБА. В соответствии с клинико-анамнестическими данными, а также критериями GINA (2020) пациенты с ТБА были распределены на 2 группы: больные ТБА с ФОДП (группа 1) и больные ТБА без ФОДП (группа 2).
В группах проведён описательный и сравнительный анализ по следующим параметрам: средний возраст, пол, форма заболевания, давность заболевания и наличие фактора курения.
Пациенты обеих групп имели признаки Т2-эндотипа воспаления. Фенотип Т2 астмы имеет следующие критерии: эозинофилы крови ≥150 кл/мкл; FeNO ≥20 ppb; аллергическая астма; потребность в назначении оральных глюкокортикостероидов; положительные кожные пробы; сопутствующие аллергические заболевания.
Методы регистрации исходов
Контроль над БА оценивался по критериям GINA (2019)1, согласно которым необходимо наличие хотя бы одного из следующих признаков: плохой контроль над симптомами (частые приступы, ограничение физической активности, ночные пробуждения); частые (≥2 в год) обострения, требующие применения системных глюкокортикостероидов, или 1 обострение, потребовавшее госпитализации. Контроль над симптомами определялся при помощи опросника ACQ-5 (в баллах): <0,5 ― контролируемая БА; 0,75–1,5 ― частично контролируемая БА; ≥1,5 ― отсутствие контроля над БА.
Кожные пробы проводились со стандартизированными аллергенами (АО «Биомед» им. И.И. Мечникова) домашней пыли, клеща домашней пыли, шерсти кошки и собаки, микст-аллергенами пыльцы деревьев (берёза, ольха, лещина), злаковых (тимофеевка, овсяница, ежа) и сорных трав (полынь, лебеда, амброзия). Выбор аллергенов для тестирования определялся на основании результатов аллергологического анамнеза и клинической картины заболевания; проба выполнялась на коже ладонной поверхности предплечья. В качестве положительного и отрицательного контроля использовали 0,01% раствор гистамина и разводящий раствор соответственно. Проба считалась положительной при диаметре папулы ≥3 мм. Аллергологическое обследование проводили вне обострения заболевания или данные получали из анамнеза.
Исследование функции внешнего дыхания проводилось на аппарате общей плетизмографии (Erich Jaeger, Германия). Пациенту рекомендовалось воздержаться от курения и приёма кофе в день обследования. Пациенты были проинструктированы о порядке проведения процедуры и обучены выполнению дыхательных манёвров. Проба на обратимость бронхиальной обструкции выполнялась по стандартам бронходилатационных тестов с 400 мкг сальбутамола, оценивалась через 15 мин и считалась положительной в случае увеличения объёма форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) более чем на 12% и 200 мл.
Содержание FeNO оценивалось при помощи портативной тест-системы NO breath (Bedfont Scientific Limited, Великобритания), где в качестве единицы измерения используется миллиардная доля концентрации (ppb). Перед началом исследования в течение 60 сек прибор автоматически осуществлял калибровку нуля.
Специфические IgE выявляли методом ImmunoCAP (кЕд/л).
Количество лимфоцитов, экспрессирующих маркеры CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, CD3+CD16+CD56+, CD3+HLADR+CD45RA+CD4+, определяли на проточном цитофлуориметре NAVIOS Flow Cytometer с использованием конъюгатмоноклональных антител к соответствующим антигенам (набор IMK, Becton Сoulter, США). Исследование внутриклеточного кислородозависимого метаболизма нейтрофилов определялось с помощью НСТ-теста (нитросиний тетрозолий) в модификации А.Н. Маянского и М.Е. Виксмана (1980) [18].
Исследование уровня про- и противовоспалительных цитокинов (IL-4, IL-5, IL-9, IL-13, TGF-β, периостин, катепсин S) выполняли при помощи иммуноферментного анализа на основе тест-системы Platinum ELISA (eBioscience, США). Определение IgE проводили методом иммуноферментного анализа с использованием наборов фирмы «Вектор» (IgE общий-ИФА-БЕСТ, Россия).
Иммунологические исследования проводились не у всех пациентов исследуемых групп.
Этическая экспертиза
Все участники были проинформированы об исследовании, принимали в нём участие добровольно и подписали информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России (№ 110/2021 от 24.12.2021).
Статистический анализ
Предварительный расчёт необходимого размера выборки не проводился.
Статистический анализ полученных данных производился с помощью программы Statistica 10.0.
Определение различий между количественными признаками проводилось с помощью критерия Манна–Уитни с учётом отсутствия нормального распределения. Для определения различий по качественным признакам использовался критерий χ2 Пирсона. Выявление связей между признаками производилось с помощью корреляционного анализа по Спирмену: при значении коэффициента корреляции (r) ≥0,75 связь между признаками оценивали как сильную, при 0,25< r <0,75 ― как зависимость средней силы, при r ≤0,25 ― как слабую. Полученные различия считались статистически значимыми при р <0,05.
Данные представлены медианой и 1-м и 3-м квартилями (Me [Q1; Q3]). Для оценки влияния различных факторов на изучаемые исходы использовался показатель отношения шансов (ОШ) и его 95% доверительный интервал (ДИ). Отношение шансов рассчитывалось по формуле ОШ=(ad)/(bc), где а и b ― наличие или отсутствие фактора риска в исследуемой группе соответственно; с и d ― наличие или отсутствие фактора риска в контрольной группе соответственно. К числу наиболее значимых факторов были отнесены информативные признаки со значением ОШ >1,0.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Объекты (участники) исследования
Среди пациентов с диагнозом ТБА было 13 (16%) мужчин и 70 (84%) женщин; медиана возраста 60 [47; 65] лет.
В группу 1 (больные ТБА с ФОДП) вошли 44 (53%±5,48) пациента, из них 9 (20,45%±6,08) мужчин и 35 (79,55±6,08%) женщин, медиана возраста 60 [47; 66, 5] лет, медиана давности заболевания 20 [13; 27, 5] лет. В группе 2 (больные ТБА без ФОДП) наблюдались 39 (47%±5,48) человек, из них 4 (10,3±4,86%) мужчин и 35 (89,7%±4,86) женщин, медиана возраста 59 [47; 64] лет, медиана давности заболевания 12 [8; 25] лет.
Ни у одного пациента контроль над заболеванием не был достигнут.
На момент начала исследования все пациенты были некурящими. Курение табака в анамнезе отмечали 5 (11,36%±4,78) пациентов с БА с ФОДП (Индекс пачка/лет 17 [10; 23]) и 3 (7,69±4,27%) пациента с БА без ФОДП (Индекс пачка/лет 25 [17, 5; 25]); р=0,721. Значимых различий по возрасту и давности заболевания между пациентами групп 1 и 2 не выявлено (табл. 1).
Таблица 1. Основные анамнестические признаки больных тяжёлой бронхиальной астмой / Table 1. Main anamnestic signs in patients with severe bronchial asthma
Признаки | Единицы измерения | Группа 1 n=44 | Группа 2 n=39 | |
Пол | Муж. | Абс. (%) | 9 (20,45) | 4 (10,3) |
Жен. | Абс. (%) | 35 (79,55) | 35 (89,7) | |
Форма бронхиальной астмы | АБА | Абс. (%) | 33 (75) | 30 (76,9) |
НАБА | Абс. (%) | 11 (25) | 9 (23,1) | |
Возраст, лет | Ме [Q1; Q3] | 59 [47; 64] | ||
Давность заболевания, лет | Ме [Q1; Q3] | 12 [8; 25] | ||
Примечание. Различия между группами по количественным признакам определяли с помощью критерия Манна–Уитни, по качественным признакам ― с помощью критерия χ2 Пирсона. АБА/НАБА ― аллергическая/неаллергическая бронхиальная астма.
Note: Differences between groups by quantitative features were performed using the Mann–Whitney test; qualitative features were assessed by Pearson’s chi-squared test. АБА/НАБА ― allergic/non-allergic bronchial asthma.
В группу контроля вошли 30 человек, медиана возраста 54 [52; 60] года, из них 10 (33%±8,61) мужчин и 20 (67%±8,61) женщин.
Основные результаты исследования
При анализе сопутствующей патологии выявлено, что в обеих группах с одинаковой частотой встречались аллергический ринит, хронический полипозный риносинусит, непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов и патология сердечно-сосудистой системы. На протяжении 12 месяцев до включения в исследование у всех пациентов течение ТБА было неконтролируемым (частые дневные и ночные симптомы, обострения и госпитализации). Значимых различий относительно выраженности клинических проявлений между показателями пациентов групп 1 и 2 не установлено. Неконтролируемое течение заболевания подтверждалось данными теста ACQ-5, который был значимо выше в группе больных БА с ФОДП (4,1 [3, 25; 4, 75]) по сравнению с группой больных БА без ФОДП (3,2 [3; 4, 2]); р=0,034.
Наиболее частой причиной обострения БА являлась вирусная инфекция (40,9 и 53,85% случаев в группах 1 и 2 соответственно). Контакт с аллергеном провоцировал обострение астмы у 29,5% больных группы 1 и у 15,3% группы 2. Вместе с тем причина ухудшения течения астмы не установлена у 25% пациентов независимо от формы заболевания.
Все пациенты с ТБА получали объём терапии, соответствовавший V ступени GINA (2019)2. В качестве базисной терапии все пациенты получали высокие (≥1000 мкг в эквиваленте беклометазона дипропионата) дозы ингаляционных глюкокортикостероидов в сочетании с длительнодействующими β2-агонистами. Тиотропия бромид дополнительно назначался в 29,55% (группа 1) и 15,38% (группа 2) случаев. Генно-инженерную биологическую терапию в группе 1 получал один пациент. Регулярно получали системные глюкокортикостероиды 4 (9%) пациента из группы 1 и 1 (2,5%) пациент из группы 2.
Снижение показателей функции внешнего дыхания характерно для пациентов с ТБА. ФОДП <70%, определяемая как отношение ОФВ1 к форсированной жизненной ёмкости лёгких (ФЖЕЛ), оценивалась после адекватной бронходилатации (400 мкг сальбутамола) при отсутствии или исключении диагноза хронической обструктивной болезни лёгких3.
Эозинофилия периферической крови, определяемая как количество эозинофилов ≥150 кл./мкл, регистрировалась в 29,55 и 53,85% случаев в группах 1 и 2 соответственно. Значимые различия между группами были получены и для показателя FeNO в выдыхаемом воздухе. У больных группы 1 отмечались более высокие показатели FeNO в выдыхаемом воздухе по сравнению с пациентами группы 2 (р=0,033). Нами получены невысокие значения FeNO в обеих группах пациентов с ТБА, что, возможно, связано с регулярным приёмом базисной терапии.
При оценке иммунологических показателей в анализируемых группах выявлены однотипные изменения (табл. 2). Отмечалось снижение в сравнении с группой контроля содержания клеток CD4+ с одновременным увеличением лимфоцитов CD8+. Соотношение CD4+/CD8+ позитивных клеток было статистически значимо снижено у больных обеих групп по сравнению с контролем. Вместе с тем обращало на себя внимание повышение содержания в периферической крови наивных и активированных Т-лимфоцитов (CD45RA+CD4+ и CD3+HLADR+ соответственно) в обеих группах в сравнении с параметрами контроля, что может свидетельствовать об иммунологической напряжённости.
Таблица 2. Иммунологические показатели больных тяжёлой бронхиальной астмой / Table 2. Immunological parameters of patients with severe bronchial asthma
Показатель | Группа 1 n=30 | Группа 2 n=29 | Контроль n=17 | р* |
Me [Q1; Q3] | ||||
1 | 2 | 3 | ||
CD3+CD19-, % | p1–2=0,936 p1–3=0,926 p2–3=0,675 | |||
CD3+CD4+, % | p1–2=0,356 p1–3=0,002 p2–3=0,011 | |||
CD3+CD8+, % | p1–2=0,420 p1–3=0,023 p2–3=0,042 | |||
СD4+/CD8+, % | p1–2=0,294 p1–3=0,001 p2–3=0,004 | |||
CD16+CD56+, % | p1–2=0,331 p1–3=0,099 p2–3=0,001 | |||
CD3+CD16+56+, % | p1–2=0,331 p1–3=0,000 p2–3=0,004 | |||
CD3+HLADR+, % | p1–2=0,503 p1–3=0,000 p2–3=0,002 | |||
CD45RA+CD4+, % | p1–2=0,265 p1–3=0,000 p2–3=0,000 | |||
CD3-CD19+, % | p1–2=0,958 p1–3=0,178 p2–3=0,244 | |||
Общий IgE, МЕ/мл | - | p1–2=0,538 | ||
IgA, г/л | p1–2=0,783 p1–3=0,018 p2–3=0,073 | |||
IgM, г/л | p1–2=0,426 p1–3=0,497 p2–3=0,935 | |||
IgG, г/л | p1–2=0,132 p1–3=0,041 p2–3=0,953 | |||
НСТ-тест | 13 [120; 14] | 12 [11; 14] | p1–2=0,4686 p1–3=0,095 p2–3=0,109 | |
Фагоцитарный индекс | 60 [40; 70] | 33 [25; 41] | p1–2=0,398 p1–3=0,001 p2–3=0,004 | |
Примечание. * Значимость различий между группами и контролем по количественным признакам определяли с помощью критерия Манна–Уитни (р <0,05).
Note: * Significance of differences between groups and control by quantitative signs were carried out using the Mann–Whitney test (р <0.05).
Иммунофенотипирование лимфоцитов периферической крови показало, что во всех клинических группах наблюдалось статистически значимое повышение Т-лимфоцитов, экспрессирующих маркеры натуральных киллеров клеток (CD3+CD16+CD56+) в сравнении с контролем.
В настоящем исследовании активность гуморального звена иммунитета определялась в сравнении с содержанием иммуноглобулинов в сыворотке крови практически здоровых лиц группы контроля. Концентрация IgА была значимо снижена у больных группы 1 и имела тенденцию к снижению у пациентов группы 2 в сравнении с показателями практически здоровых (р=0,018 и р=0,073 соответственно). Все полученные данные в исследуемых группах укладывались в диапазон референсных значений, что позволяло исключить у пациентов наличие первичного иммунодефицита.
В обеих группах регистрировалось повышение уровня IL-4 по сравнению с контролем, однако между группами значимых различий не выявлено. Выявлены также повышение содержания IL-13 в группе больных без ФОДП и тенденция к увеличению этого показателя в группе 1 в сравнении с контролем. Уровень периостина в плазме крови был значимо выше у пациентов группы 1 в сравнении с контролем (р <0,0001). Уровень содержания IL-5 и IL-9 в сыворотке крови пациентов обеих групп статистически значимо не отличался от контроля.
При ТБА с ФОДП и без ФОДП обнаружено повышение содержания катепсина S и TGF-β в плазме крови по сравнению с контрольной группой (табл. 3).
Таблица 3. Показатели цитокинового профиля периферической крови больных тяжёлой бронхиальной астмой / Table 3. Peripheral blood cytokine profile parameters of patients with severe bronchial asthma
Показатель | Группа 1 n=21 | Группа 2 n=18 | Контроль n=17 | р* |
Me [Q1; Q3] | ||||
1 | 2 | 3 | ||
Периостин, нг/мл | 2768,5 [1143; 5835] | p1–2=0,587 p1–3=0,027 p2–3=0,164 | ||
IL-4, пг/мл | p1–2=0,364 p1–3=0,035 p2–3=0,006 | |||
IL-5, пг/мл | p1–2=0,769 p1–3=0,257 p2–3=0,091 | |||
IL-9, пг/мл | p1–2=0,944 p1–3=0,234 p2–3=0,265 | |||
IL-13, пг/мл | p1–2=0,282 p1–3=0,140 p2–3=0,043 | |||
Катепсин S, нг/мл | p1–2=0,364 p1–3=0,035 p2–3=0,006 | |||
TGF-β, пг/мл | p1–2=0,401 p1–3=0,000 p2–3=0,000 | |||
Примечание. * Значимость различий между группами и контролем по количественным признакам определяли с помощью критерия Манна–Уитни (р <0,05).
Note: * Significance of differences between groups and control by quantitative signs were carried out using the Mann–Whitney test (р <0.05).
Анализ факторов риска формирования ФОДП (табл. 4) выявил наиболее значимые из них: приём короткодействующих β2-агонистов (>4 ингаляций в день; ОШ=4,2) и FeNO >20 ppb (ОШ=6,0).
Таблица 4. Факторы риска формирования фиксированной обструкции дыхательных путей у больных тяжёлой бронхиальной астмой / Table 4. Risk factors for the formation of fixed airway obstruction in patients with severe bronchial asthma
Фактор риска | Отношение шансов | 95% доверительный интервал |
Давность заболевания >10 лет | 1,8 | 0,7–4,84 |
Давность заболевания >20 лет | 2,1 | 0,86–5,1 |
Дебют заболевания до 12 лет | 6,1 | 0,7–53,7 |
Приём короткодействующих β2-агонистов >4 ингаляций в день | 4,2 | 1,02–17,3 |
FeNO >20 ppb | 6,0 | 1,03–34,8 |
Периостин >5000 нг/мл | 3,2 | 0,557–18,38 |
TGF-β >1000 пг/мл | 1,25 | 0,221–7,08 |
В процессе исследования всем пациентам была проведена коррекция базисной терапии. Так, дополнительная генно-инженерная биологическая терапия была определена 16 (36%±7,25) пациентам группы 1: омализумаб ― 1 (6%±6,05), бенрализумаб ― 6 (38%±12,1), дупилумаб ― 6 (38%±12,1), меполизумаб ― 3 (18%±9,8). Клинико-функциональные и лабораторные особенности больных ТБА с ФОДП, получающих генно-инженерную биологическую терапию, представлены в табл. 5.
Таблица 5. Клинико-функциональные и лабораторные особенности больных тяжёлой бронхиальной астмой с фиксированной обструкцией дыхательных путей, получающих генно-инженерную биологическую терапию / Table 5. Clinical, functional and laboratory features of patients with severe bronchial asthma with fixed airway obstruction receiving genetically engineered biological therapy
Признаки | Группа 1 (n=16) | р | |
До начала лечения ГИБТ | Через год лечения ГИБТ | ||
Ме [Q1; Q3] | |||
Число дневных приступов удушья | 1 [1; 2] | 0,000177 | |
Число ночных приступов удушья | 2 [1; 2] | 0 [0; 0] | 0,148915 |
Количество обострений за 12 месяцев | 0 [0; 1] | 0,026857 | |
Количество госпитализаций за 12 месяцев | 1 [1; 2] | 0 [0; 0] | 0,288844 |
ACQ-5 (Asthma Control Questionnaire), балл | 0,007661 | ||
АСТ (Asthma Control test), балл | 0,133614 | ||
ОФВ1 исходно, % | 0,000301 | ||
ФЖЕЛ исходно, % | 0,000301 | ||
ОФВ1/ФЖЕЛ исходно, % | 0,000301 | ||
ОФВ1 после пробы, % | 0,000301 | ||
ФЖЕЛ после пробы, % | 0,000301 | ||
ОФВ1/ФЖЕЛ после пробы, % | 0,000301 | ||
Эозинофилы, кл/мкл | 85 [0; 275] | 0,003426 | |
Примечание. Различия внутри группы по количественным признакам определяли с помощью критерия Вилкоксона. ГИБТ ― генно-инженерная биологическая терапия.
Note: Within-group differences in quantitative features were performed using the Wilkaxon test. ГИБТ ― genetic engineering biological therapy.
Основные результаты исследования
Нами выявлено значимое улучшение клинического состояния больных ТБА с ФОДП на фоне приёма генно-инженерной биологической терапии в течение года. Всем пациентам данной группы удалось достичь частичного или полного контроля над заболеванием по данным опросника ACQ-5. Нами зафиксировано также улучшение функции внешнего дыхания у 5 (31%±11,6) пациентов группы ТБА с ФОДП: показатель ОФВ1/ФЖЕЛ после пробы с бронхолитиком стал выше 70%.
Нежелательные явления
Нежелательных явлений в ходе исследования не выявлено.
ОБСУЖДЕНИЕ
Резюме основного результата исследования
Между группами больных ТБА различий в иммунном статусе не выявлено, полученные изменения были однотипными и не зависели от наличия или отсутствия ФОДП. Нами выявлены факторы риска, оказывающие влияние на формирование ФОДП в группе больных ТБА.
Обсуждение основного результата исследования
При ТБА независимо от наличия или отсутствия ФОДП мы обнаружили снижение уровня Т-хелперов (CD3+CD4+) и иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+) с одновременным повышением цитотоксических Т-лимфоцитов (CD3+CD8+), естественных Т-киллеров (CD3+CD16+CD56+), наивных Т-лимфоцитов (CD45RA+CD4+), активированных Т- и В- лимфоцитов (CD3+HLADR+), фагоцитарного индекса в сравнении с контролем. Полученные данные могут свидетельствовать об активации одного из патофизиологических механизмов, направленных на реализацию апоптотической гибели клеток, что приводит к ограничению иммунного ответа [8].
В нашем исследовании выявлено снижение содержания CD4+ клеток с одновременным увеличением CD8+ лимфоцитов в сравнении с группой контроля, что согласуется с работой E.W. Gelfand и T.S. Hinks [19], где показано, что CD8+ клетки способны синтезировать цитокины Т2-воспаления (IL4, IL5, IL13), однако CD8+ лимфоциты менее чувствительны к применению глюкокортикостероидов, чем CD4+-лимфоциты. Продемонстрирована в том числе взаимосвязь между CD8+ и гиперреактивностью дыхательных путей в модели аллергического воспаления, а также взаимосвязь между количеством CD8+ в биоптате бронхов и снижением ОФВ1 за двухлетний период наблюдения за пациентами с атопической астмой. Примечательно, что после перенесённой риновирусной инфекции специфичные CD8+ могут сохраняться в течение нескольких месяцев. С учётом имеющихся данных можно сделать вывод, что в нашем случае смещение дифференцировки Т-клеток в сторону CD8+ может быть ассоциировано с более тяжёлым течением заболевания [20].
Иммунофенотипирование лимфоцитов периферической крови показало, что во всех клинических группах наблюдалось статистически значимое повышение Т-лимфоцитов, экспрессирующих маркеры натуральных киллеров клеток, в сравнении с контролем, что подчёркивает важность факторов врождённого иммунного ответа в патогенезе БА. Полученные нами результаты согласуются с исследованием P. Matangkasombut и соавт. [20], где у пациентов с тяжёлым течением БА обнаруживалось большее количество NKT-клеток в бронхоальвеолярном лаваже.
В исследовании Y.I. Koh и соавт. [21] получена отрицательная взаимосвязь между уровнем NKT-клеток крови и эозинофилией мокроты в момент обострения БА, на основании чего авторы предполагают, что NKT-клетки инфильтрируют бронхиальную стенку в момент обострения и могут способствовать развитию эозинофильного воспаления. В патогенезе бронхиальной гиперреактивности отдельная роль также отводится NKT-клеткам. Однако на данный момент роль указанных лимфоцитов в патогенезе БА остаётся спорной, что, с одной стороны, отражает гетерогенность БА, с другой ― связано с малым количеством исследований [22].
В обеих исследуемых группах нами обнаружено повышение содержания катепсина S и TGF-β в плазме крови по сравнению с контрольной группой. Сочетанное повышение указанных факторов отражает их патофизиологическую взаимосвязь: так, известно, что катепсин S, локализованный на ядерной мембране, может регулировать передачу сигналов TGF-β посредством регуляции активности белков SMAD2/3 [23].
Мы исследовали ряд факторов для определения их роли в формировании ФОДП и выявили наиболее значимые: более 4 ингаляций в день короткодействующих β2-агонистов (ОШ=4,2) и концентрация FeNO более 20 ppb (ОШ=6,0).
Ограничения исследования
Интерпретация полученных результатов ограничена немногочисленной выборкой. Малый размер выборки снижает мощность статистического анализа при поиске факторов риска формирования ФОДП.
Поскольку размер выборки предварительно не рассчитывался, полученная в ходе исследования выборка участников не может считаться в достаточной степени репрезентативной, что не позволяет экстраполировать полученные результаты и их интерпретацию на генеральную совокупность аналогичных пациентов за пределами исследования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На сегодняшний день отсутствует однозначное представление о механизмах реализации патобиохимических реакций в дыхательных путях при ТБА, которые приводят к развитию ФОДП. В отношении пациентов с преобладанием Т2-ответа возможно применение V ступени терапии БА с использованием биологических препаратов.
Полученные нами данные свидетельствуют о том, что у нас есть возможность улучшить течение ТБА с ФОДП. ТБА является вариабельной и зависит от правильной тактики ведения пациента. Так, длительный приём таргетной терапии может изменить фенотип ТБА, а выявление факторов риска, влияющих на формирование ФОДП, позволит вовремя провести их коррекцию.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: А.Ю. Крапошина ― концепция и дизайн исследования, сбор и обработка материала, анализ полученных данных, написание текста; И.В. Демко, Е.А. Собко ― концепция и дизайн исследования, редактирование статьи.
ADDITIONAL INFORMATION
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. A.Yu. Kraposhina ― study concept and design, collection and processing of materials, analysis of obtained data, writing of text; I.V. Demko, E.A. Sobko ― study concept and design, paper editing.
1 Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention (2019 update). Режим доступа: www.ginasthma.org.
2 Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for asthma management and prevention [2019 update]. Режим доступа: www.ginasthma.org.
3 Global Strategy for Asthma Management and Prevention, Global Initiative for Asthma (GINA) [Update 2022]. Режим доступа: www.ginasthma.org.
About the authors
Angelina Yu. Kraposhina
Professor V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University; Krasnoyarsk Clinical Regional Hospital
Author for correspondence.
Email: angelina-maria@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0001-6896-877X
SPIN-code: 8829-9240
MD, Cand. Sci. (Med.), Associate Professor
Россия, 1 P. Zeleznyak street, 660022 Krasnoyarsk; KrasnoyarskIrina V. Demko
Professor V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University; Krasnoyarsk Clinical Regional Hospital
Email: demko64@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8982-5292
SPIN-code: 6520-3233
MD, Dr. Sci. (Med.), Professor
Россия, 1 P. Zeleznyak street, 660022 Krasnoyarsk; KrasnoyarskElena A. Sobko
Professor V.F. Voino-Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical University; Krasnoyarsk Clinical Regional Hospital
Email: sobko29@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9377-5213
SPIN-code: 9132-6756
MD, Dr. Sci. (Med.), Professor
Россия, 1 P. Zeleznyak street, 660022 Krasnoyarsk; KrasnoyarskReferences
- Zaytsev AA. Bronchial asthma in adults: Key issues of diagnosis and pharmacotherapy. Russ Med J. 2015;(18):1096–1100. (In Russ).
- Avdeev SN, Nenasheva NM, Zhudenkov KV, et al. Prevalence, morbidity, phenotypes and other characteristics of severe bronchial asthma in Russian Federation. Pulmonologiya. 2018;28(3):341–358. (In Russ). doi: 10.18093/0869-0189-2018-28-3-341-358
- Vennera MD, Picado C, Herráez L, et al. Factors associated with severe uncontrolled asthma and the perception of control by physicians and patients. Arch Bronconeumol. 2014;50(9):384–391. doi: 10.1016/j.arbres.2014.03.002
- Leckie MJ, Brinke TA, Khan J. Effects of an interleukin-5 blocking monoclonal antibody on eosinophils, airway hyper-responsiveness, and the late asthmatic response. The Lancet. 2000;356(9248): 2144–2148. doi: 10.1016/S0140-6736(00)03496-6
- Svenningsen S, Nair P. Asthma Endotypes and an overview of targeted therapy for asthma. Front Med. 2017;(4):158. doi: 10.3389/fmed.2017.00158
- Sergeeva GR, Emelyanov AV, Korovina OV, et al. Severe bronchial asthma: Characteristics of patients in clinical practice. Ther Arch. 2015;87(12):26–31. (In Russ). doi: 10.17116/terarkh2015871226-31
- Konstantellou E, Papaioannou AI, Loukides S, et al. Persistent airflow obstruction in patients with asthma: Characteristics of a distinct clinical phenotype. Respir Med. 2015;109(11):404–409. doi: 10.1016/j.rmed.2015.09.009
- Ciebiada M, Domagała M, Gorska-Ciebiada M, Gorski P. Risk factors associated with irreversible airway obstruction in nonsmoking adult patients with severe asthma. Allergy Asthma Proc. 2014;35(5):72–79. doi: 10.2500/aap.2014.35.3785
- Bennett GH, Carpenter L, Hao W, et al. Risk factors and clinical outcomes associated with fixed airflow obstruction in older adults with asthma. Ann Allergy Asthma Immunol. 2018;120(2):164–168. doi: 10.1016/j.anai.2017.10.004
- Haddad A, Gaudet M, Plesa M, et al. Neutrophils from severe asthmatic patients induce epithelial to mesenchymal transition in healthy bronchial epithelial cells. Respir Res. 2019;20(1):234. doi: 10.1186/s12931-019-1186-8
- Nair P, Pizzichini MM, Kjarsgaard M, et al. Mepolizumab for prednisone-dependent asthma with sputum eosinophilia. N Engl J Med. 2009;360(10):985–993. doi: 10.1056/NEJMoa0805435
- Nair P. Anti-interleukin-5 monoclonal antibody to treat severe eosinophilic asthma. N Engl J Med. 2014;371(13):1249–1251. doi: 10.1056/NEJMe1408614
- Wenzel S. Severe asthma: From characteristics to phenotypes to endotypes. Clin Exp Allergy. 2012;42(5):650–658. doi: 10.1111/j.1365-2222.2011.03929.x
- Cosmi L, Liotta F, Maggi L, Annunziato F. Role of type 2 innate lymphoid cells in allergic diseases. Curr Allergy Asthma Rep. 2017;17(10):66. doi: 10.1007/s11882-017-0735-9
- Licari A, Castagnoli R, Brambilla I, et al. New approaches for identifying and testing potential new anti-asthma agents. Expert Opin Drug Discov. 2018;13(1):51–63. doi: 10.1080/17460441.2018.1396315
- Flood-Page P, Swenson C, Faiferman I, et al. A study to evaluate safety and efficacy of mepolizumab in patients with moderate persistent asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176(11): 1062–1071. doi: 10.1164/rccm.200701-085OC
- Hirose K, Iwata A, Tamachi T, Nakajima H. Allergic airway inflammation: Key players beyond the Th2 cell pathway. Immunol Rev. 2017;278(1):145–161. doi: 10.1111/imr.12540
- Viksman ME, Maianskiy AN. Characteristics of the opsonin factors according to the reaction of nitroblue tetrazolium reduction by human neutrophils. Bulletin of experimental biology and medicine. 1980;89(2):214–215.
- Gelfand E, Hinks TS. Is there a role for type 2 CD8+ T cells in patients with steroid-resistant asthma? J Allergy Clin Immunol. 2019;144(3):648–650. doi: 10.1016/j.jaci.2019.07.02
- Matangkasombut P, Marigowda G, Ervine A, et al. Natural killer T cells in the lungs of patients with asthma. J Allergy Clin Immunol. 2009;123(5):1181–1185. doi: 10.1016/j.jaci.2009.02.013
- Koh YI, Shim JU, Wi J, Kwon YE. The role of natural killer T cells in the pathogenesis of acute exacerbation of human asthma. Int Arch Allergy Immunol. 2012;158(2):131–141. doi: 10.1159/000330908
- Kim HY, De Kruyff RH, Umetsu DT. The many paths to asthma: phenotype shaped by innate and adaptive immunity. Nat Immunol. 2010;11(7):577–584. doi: 10.1038/ni.1892
- Sobotic B, Vizovisek M, Vidmar R, et al. Proteomic identification of cysteine Cathepsin substrates shed from the surface of cancer cells. Mol Cell Proteomics. 2015;14(8):2213–2228. doi: 10.1074/mcp.M114.044628
Supplementary files