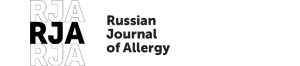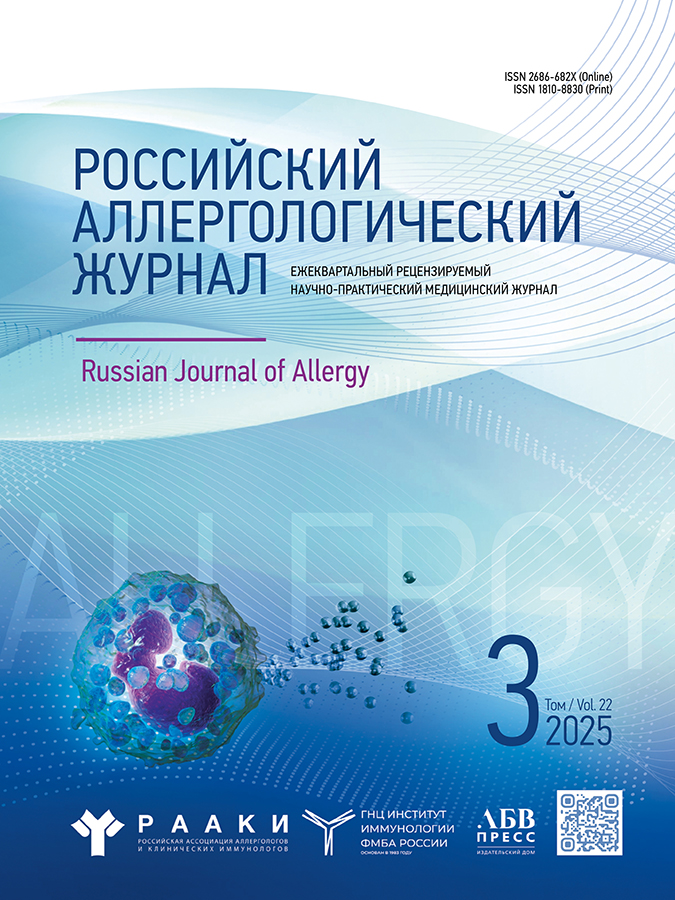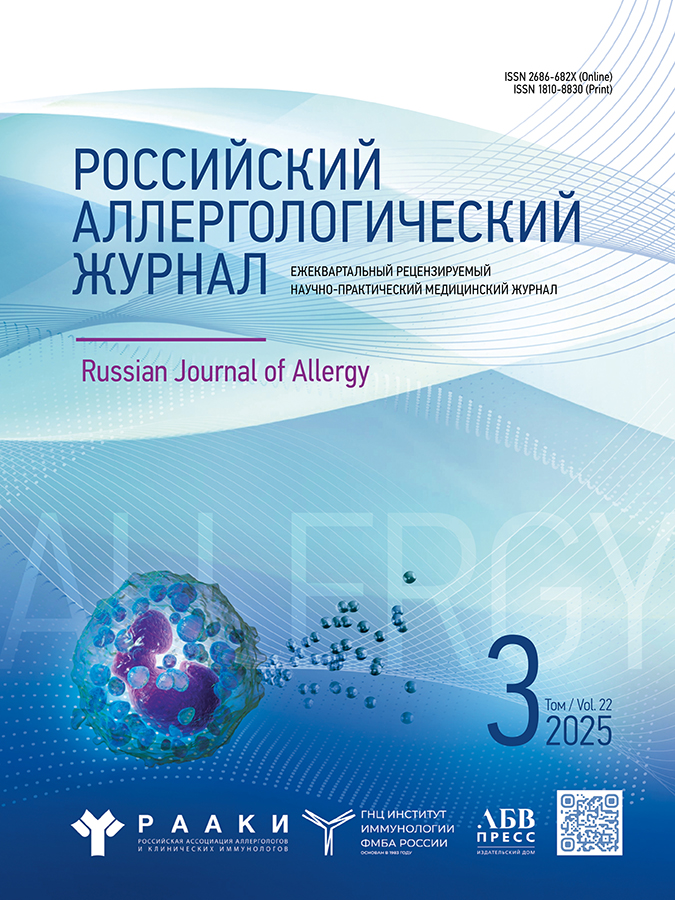Head and neck atopic dermatitis: current pathogenetic aspects and therapeutic approaches
- Authors: Ivanov R.A.1, Murashkin N.N.1,2,3, Ereshko O.A.1, Pavlova E.S.1, Epishev R.V.1
-
Affiliations:
- National Medical Research Center of Children’s Health
- The First Sechenov Moscow State Medical University (Sechenov University)
- Central State Medical Academy
- Issue: Vol 22, No 3 (2025)
- Pages: 287-303
- Section: Reviews
- Submitted: 30.06.2025
- Accepted: 01.08.2025
- Published: 06.08.2025
- URL: https://rusalljournal.ru/raj/article/view/17033
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA17033
- ID: 17033
Cite item
Abstract
Persistent rashes in the head and neck area in patients with atopic dermatitis, particularly those developing after the initiation of dupilumab therapy, represent a complex clinical challenge due to the poorly understood causes and mechanisms of development, as well as the lack of standardized therapeutic approaches. Given the localization in cosmetically and functionally important areas of the skin (face, periauricular region, neck, upper torso), this form of atopic dermatitis is associated with significant stigmatization and a decrease in the patient’s quality of life. The refractory course of atopic dermatitis involving the face and neck may represent a distinct subgroup of patients with additional pathophysiological determinants and unique features of immune dysregulation that require special consideration. This article presents current insights into the etiopathogenesis of this condition and management strategies, including a review of clinical cases from our own practice. The relevance of the issue is underscored by its high prevalence and the potential risk of discontinuing targeted therapy, emphasizing the need for timely identification and appropriate management to avoid unnecessary treatment interruption. To optimize care and develop a personalized patient management strategy, we have proposed a decision-making algorithm that addresses the key questions clinicians may encounter when managing this specific patient group.
Full Text
Введение
Атопический дерматит (АтД) с преимущественным поражением области головы и шеи (дерматит головы и шеи) является отдельной, трудно поддающейся лечению формой заболевания, затрагивающей в основном себорейные зоны, иногда периорбитальную область и сопровождающейся выраженным зудом. Этот вариант АтД встречается приблизительно у 36 % взрослых и у 79 % пациентов детского, особенно подросткового, возраста, в том числе получающих современную таргетную терапию по основному заболеванию [1, 2]. С учетом локализации в косметически и функционально значимых зонах кожного покрова (лицо, заушная область, шея, верхняя часть туловища), а также сложной курации данная форма АтД связана со значительной стигматизацией и снижением качества жизни, требующих от специалиста своевременной и адекватной оптимизации лечения [3].
В данном обзоре мы рассмотрим ключевые причины и современные механизмы патофизиологии указанной формы АтД, а также обсудим основные терапевтические стратегии.
Основные патомеханизмы
Персистирующее воспалительное поражение в области головы и шеи у пациентов с АтД может быть вызвано несколькими основными причинами: нарушением колонизации кожи себорейных зон условно-патогенными и комменсальными грибковыми микроорганизмами, в основном рода Malassezia, с формированием последующей сенсибилизации как к антигенам грибкового патогена, так и к структурам собственных тканей вследствие перекрестных свойств некоторых белков в ряде случаев; непосредственным воздействием на кожу сенсибилизированного пациента аэроаллергенов; развитием стероид-индуцированного дерматита на фоне применения топических или ингаляционных стероидов при сопутствующей бронхиальной астме, а также на фоне биологической терапии препаратом дупилумаб [4]. У небольшой части пациентов наличие персистирующих высыпаний в области головы и шеи может быть результатом воздействия нескольких причин одновременно [5].
Детальное изучение патологических взаимодействий, происходящих под влиянием указанных факторов, представляет большой интерес, связанный прежде всего с поиском и определением наиболее эффективных рычагов воздействия, позволяющих добиться полного регресса высыпаний. Интересно, что рассматриваемый нами рефрактерный вариант течения АтД с поражением лица и шеи может в целом описывать отдельную подгруппу пациентов, имеющих дополнительные патофизиологические детерминанты и особенности дисрегуляции иммунного ответа, требующих, в свою очередь, индивидуального подхода. Однако для лучшего понимания и выбора оптимальной терапевтической тактики для каждого пациента следует вначале ознакомиться с наиболее доказанными патофизиологическими механизмами, лежащими в основе этого состояния.
Нарушение микробиома кожи
Изменение микробиома кожи при АтД является одной из важных и признанных составляющих патогенеза болезни, однако чаще всего рассматриваются вклад и влияние нарушения видового разнообразия бактериальной флоры: гиперколонизация Staphylococcus aureus наряду со снижением численности комменсальных видов стафилококка (в частности, S. epidermidis), связанных с развитием и поддержанием воспалительного процесса, тогда как влияние грибковой флоры кожи только начинает активно изучаться [6, 7]. Появляется все больше доказательств, особенно в отношении Malassezia spp., указывающих на ключевую роль грибковой условно-патогенной флоры не только в развитии обострения АтД, но и в формировании устойчивого к терапии характерного паттерна высыпаний в области головы и шеи.
Несмотря на ограниченное число исследований, посвященных данному вопросу, известно, что в основе стойкого воспалительного процесса при АтД головы и шеи лежит специфическое взаимодействие Malassezia spp. с иммунной системой кожи (рис. 1), которое наиболее активно происходит у лиц с генетической восприимчивостью к дрожжевым грибам за счет полиморфизма генов интерлейкина (IL) 10 (819/592C/T) и интерферона γ (874A/T) [8].
Рис. 1. Современные концепции развития атопического дерматита с преимущественным вовлечением головы и шеи в результате гиперколонизации Malassezia spp. (адаптировано на основании данных источника [3] с помощью онлайн-ресурса BioRender).
Примечание. IL — интерлейкин; Ig — иммуноглобулин.
Fig. 1. Modern concepts of the head and neck atopic dermatitis development due to Malassezia spp. skin hypercolonization (adapted based on data from source [3] using the online tool BioRender).
Note. IL — interleukin; Ig — immunoglobulin.
Первоначальное увеличение колонизации кожи дрожжевыми грибами рода Malassezia происходит в результате структурно-функциональной дисфункции эпидермального барьера и протекающего T2-воспалительного процесса, лежащих в основе АтД. При этом Malassezia spp. активируют врожденные и адаптивные иммунные реакции посредством выделения своих продуктов жизнедеятельности (метаболиты и антигены Mala s 11, Mala s 13, являющиеся потенциальными аллергенами для пациентов с АтД), которые способствуют формированию сенсибилизации к ним организма хозяина c развитием комбинированной гиперчувствительности I и IV типов, участию Th2- и Th17-имунных реакций, усугубляющих симптомы основного заболевания, в том числе через иммунный ответ, опосредованный иммуноглобулином (Ig) E. Более того, определена роль белка M. globosa (MGL_1304) и его гомологов из M. sympodialis (Mala s 8) и M. restricta (Mala r 8), проявляющих различную активность в отношении тучных клеток и их медиаторов — гистамина и триптазы, провоцирующих зуд и воспаление в себорейных зонах кожного покрова при АтД, что указывает на их непосредственное участие в патогенезе варианта АтД с преимущественным вовлечением головы и шеи [9]. Не менее интересны данные наблюдений, указывающие на то, что антигены Malassezia spp. также обнаруживаются в поте, где они выступают в качестве дополнительного провоцирующего фактора для развития обострения заболевания в условиях повышенного потоотделения [10].
Кроме того, у части пациентов с АтД сенсибилизация к антигенам Malassezia spp. вызывает аутореактивность Т-клеток к собственным белкам посредством феномена молекулярной мимикрии, что приводит к стойкому воспалению восприимчивых областей кожного покрова, поддержанию системного воспалительного процесса и риску развития аутоиммунных заболеваний [11, 12]. В основе перечисленных аберрантных реакций иммунного ответа лежит прежде всего дефектный кожный барьер, способствующий проникновению в эпидермис потенциальных аллергенов и дрожжевых клеток Malassezia, где они распознаются Toll-подобным рецептором 2 на поверхности дендритных клеток и кератиноцитов, что инициирует высвобождение ряда провоспалительных цитокинов, а также способствует распознаванию антигенов Malassezia и их последующей презентации наивным Т-клеткам. Последние в регионарных лимфатических узлах трансформируются в эффекторные Т-лимфоциты и Т-клетки памяти, запрограммированные на распознавание антигенов Malassezia; происходит развитие сенсибилизации, в том числе и к аутоантигенам, что приводит к активации уже развившегося T2-иммунного ответа. Проблема возникновения аутореактивности заключается в том, что праймированные к антигенам Malassezia Т-клетки могут перекрестно реагировать между грибковой (Mala s 11) и человеческой марганец-зависимой супероксиддисмутазой за счет высокой степени идентичности данных антигенных детерминант.
В дополнение к этому возможно перекрестное реагирование между белком Mala s 13, который представляет собой грибковый тиоредоксин, с очень похожим на него человеческим гомологом, что также будет поддерживать воспалительный процесс в себорейных зонах [13, 14]. Для справки отметим, что тиоредоксины являются представителями присутствующих во всех организмах (от археев до человека) семейств небольших белков, которые участвуют в межклеточной коммуникации и многих важных биологических процессах, включая определение окислительно-восстановительного потенциала и регуляцию функции ряда иммунных клеток [15].
Установлено, что взаимодействие Malassezia spp. с иммуноцитами кожи опосредует как гуморальный, так и клеточно-опосредованный иммунный ответ и способствует не только появлению новых поражений, но и усугубляет ранее существовавшее воспаление кожи при АтД. Известно, что сенсибилизация организма к Malassezia sympodialis (Mala s 6, Mala s 11) коррелирует с тяжестью заболевания: у пациентов с тяжелой формой АтД в 36 % случаев регистрируется очень высокий уровень специфических IgE к Malassezia sympodialis (Mala s 11). Интересно, что сенсибилизация к Malassezia sympodialis (Mala s 6) значительно чаще наблюдается у больных АтД, страдающих аллергическим ринитом [16]. Колонизация кожи дрожжевыми грибами приводит к увеличению количества выделяемых в ходе жизнедеятельности M. sympodialis, M. globosa, M. furfur или M. restricta внеклеточных везикул, обогащенных гидролазами и другими каталитическими белками, необходимыми для расщепления липидов кожного сала, являющегося основным питательным субстратом, способствующим размножению Malassezia spp. [17]. Под действием протеаз происходят дальнейшая деградация кожного барьера, снижение экспрессии ключевых структурных белков и церамидов, повышение вирулентности грибковых микроорганизмов, облегчение колонизации кожи, проникновение в кожу аллергенов, включая аэроаллергены окружающей среды, Mala s 1 и Mala s 5–13, и самих дрожжевых грибов. все это приводит к модуляции иммунных реакций в сторону Т2-иммунного ответа, что замыкает порочный круг патогенеза АтД с преимущественным поражением кожи головы и шеи [3, 18].
Однако есть еще одна механистическая теория, объясняющая формирование персистирующих экзематозных высыпаний на коже в области головы и шеи, колонизированной Malassezia spp. В ее основе лежит активация воспалительной оси IL-23/Th17. В рамках этой точки зрения антигены Malassezia spp. способствуют высвобождению провоспалительного цитокина IL-23 нейтрофилами или моноцитами, что приводит к последующей активации Th17-клеток и врожденных лимфоидных клеток, впоследствии секретирующих IL-17, связанный с развитием не только экзематозных, но и псориазиформных высыпаний, а также с нарушением регуляции противогрибкового ответа [19].
Все еще отсутствует окончательное понимание того, насколько сильное влияние эти механизмы оказывают на возникновение кожных проявлений АтД преимущественно в области головы и шеи у каждого индивидуума. Вероятнее всего, более правильным будет рассматривать эти 2 теории как единое целое патологического процесса, поскольку в основе АтД лежит значительная иммунная дисрегуляция, затрагивающая как Th2-, так и Th17-иммунный ответ [20].
Воздействие аллергенов окружающей среды
Наличие у пациента с АтД сенсибилизации к различным аэроаллергенам, таким как пыльца, перхоть животных, клещи домашней пыли, плесневые грибы, часто связано с более тяжелым течением заболевания с преобладанием высыпаний на открытых участках кожного покрова, включая кисти рук, голову и шею [21]. Как правило, наряду с кожными проявлениями у таких пациентов отмечается высокий уровень общего и специфического IgE к основным аэроаллергенам, имеются симптомы круглогодичного или сезонного аллергического риноконъюнктивита и бронхиальной астмы [22]. Данный сценарий наиболее характерен для пациентов, имеющих значительные нарушения барьерной функции кожи, связанные в том числе с повышенным риском транскутанного проникновения высокомолекулярных аллергенов в кожу, например в случае наличия патогенных вариантов гена филаггрина [23]. Не менее важным шагом является исключение аллергического контактного дерматита. С учетом рассматриваемых нами локализаций особое внимание следует уделить используемому парфюму (цитрусовые парфюмерные масла), элементам одежды, очкам и ювелирным украшениям (сплавы, содержащие сульфат никеля, или изделия с никелированием металла), уходовым средствам (ланолин, консерванты, ароматизаторы, неочищенные растительные экстракты) и декоративной косметике, включая помады, тушь для ресниц, тональные основы, влажные салфетки, шампуни (метилизотиазолинон, кокамидопропилбетаин, децилглюкозид, диметиламинопропиламин и амидоамин), краскам для волос; реже источник аллергена носит профессиональный характер или связан с типом интерьерной краски и проживанием или периодическим посещением окрашенной комнаты или дома [22, 24].
Терапия ингибитором интерлейкина 4/13
Все чаще можно увидеть данные клинических случаев, связанных с возникновением дерматита лица и шеи, ассоциированного с терапией дупилумабом, получившего разные названия: парадоксальная эритема головы и шеи, персистирующий дерматит лица и шеи. Данное проявление регистрируется, как правило, у лиц взрослого и подросткового возраста через 2–3 мес после начала биологической терапии, реже требуется более длительное время (до 9–10 мес) получения препарата [25]. По разным оценкам, состояние затрагивает от 4 до 43,8 % пациентов взрослого и детского возраста, получающих ингибитор IL-4/IL-13 [26]. Подобные изменения кожи могут возникать de novo на фоне продолжающегося лечения дупилумабом, также вызывать ухудшение ранее имевшихся проявлений АтД с поражением преимущественно головы и шеи, что расценивается как 50 % ухудшение индекса площади и тяжести экземы (EASI) данных локализаций по причине грибковой гиперколонизации кожи липофильными дрожжевыми грибами рода Malassezia [3].
Примечательно, что у большинства пациентов с установленной парадоксальной эритемой головы и шеи, вызванной приемом дупилумаба, уровень sIgE к Malassezia в сыворотке значительно выше, чем у тех, у кого эти проявления не развиваются, даже несмотря на отсутствие значительной разницы показателя общего IgE в сыворотке крови [27]. Одним из потенциальных объяснений этого феномена является предположение о сдвиге в сторону противогрибкового Th17/Th22-воспалительного ответа. Считается, что блокирование ключевых цитокинов Т2-воспаления IL-4 и IL-13, поддерживающих гомеостаз между хозяином и колонизацией кожи Malassezia spp., у части пациентов может вызвать иммунный дисбаланс с превалированием и гиперактивацией путей, ответственных за противогрибковую защиту организма, которая будет реагировать на представителей комменсальной грибковой флоры, включая дрожжевые грибы рода Malassezia, являющиеся наиболее высоко представленными в микобиоме кожи человека [28]. Подтверждением сверхактивации Th17/Th22-иммунного ответа против Malassezia у пациентов с АтД служат увеличение количества специфичных Th17-клеток, в том числе относящихся к фенотипу тканевых резидентных Т-клеток памяти, обнаружение высокого числа Th22-клеток и активации кератиноцитов с повышением регуляции рецептора IL-22 [29]. Другие малоизученные теории с небольшой доказательной базой включают сосудистую реакцию и размножение клеща Demodex в ответ на поляризацию Th1- и Th17-иммунного ответа — обычно как проявление/усугубление имеющейся розацеа [4].
В исключительных случаях новые высыпания в области головы и шеи на фоне лечения дупилумабом могут быть следствием потребления крепких спиртных напитков; в этих случаях изменения кожи лица и шеи отмечаются непосредственно после приема очередной дозы алкоголя (через 3–5 мин), при этом высыпания спонтанно самостоятельно разрешаются в течение следующих 20–30 мин независимо от последующего продолжения или прекращения приема алкоголя [30–32]. Интересна закономерность, заключающаяся в том, что чем больше последовательных дней пациент употреблял алкоголь, тем менее тяжелыми и менее частыми были проявления. Возможным объяснением такой специфической реакции выступает модулирование дупилумабом процессов образования ферментов цитохрома P450 (CYP450). Несмотря на то что за метаболизм этанола в организме в основном отвечает алкогольдегидрогеназа (ALDH2), не относящаяся к системе цитохрома P450, часть этанола (примерно 10 %) метаболизируется с участием фермента CYP2E1 семейства цитохрома P450. CYP2E1 играет ключевую роль в расщеплении этанола до ацетальдегида. Вероятнее всего, дупилумаб влияет на действие этого фермента, что в конечном счете вызывает накопление ацетальдегида и приводит к покраснению лица [30]. Однако у пациентов с подобными проявлениями в сочетании с приливами жара можно заподозрить дермальную вазодилатацию кожи, возникающую в результате прямого влияния этанола и его метаболитов на центры регуляции сосудистого тонуса или опосредованно за счет влияния на функцию определенных гормонов (например, ангиотензина, вазопрессина и катехоламинов) [32].
Другим перспективным предположением является рассмотрение персистирующего дерматита лица и шеи, ассоциированного с дупилумабом, в качестве высыпаний псориазиформного происхождения, включая случаи de novo и усугубление уже имевшихся, но неправильно расцененных высыпаний по причине стертой клинической картины. Такой вариант развития событий может быть особенно актуальным для лиц, имеющих картину течения АтД по типу ПсЭма (пересечение между АтД и псориазом) и/или отягощенный семейный анамнез по псориазу, поскольку эти предрасположенные индивидуумы более склонны к развитию иммунного дисбаланса в сторону Th1/Th17-звена на фоне выключения Th2-ответа, при этом дрожжевые грибы рода Malassezia также могут играть далеко не последнюю роль [33].
Развитие псориазиформных поражений кожи
Развитие картины псориазиформных высыпаний у больных АтД, предрасположенных к развитию псориаза, особенно на фоне генно-инженерной биологической терапии, является хоть и редкой, но возможной траекторией течения заболевания; при этом может произойти как развитие псориаза de novo, так и рецидив/ухудшение ранее не установленного заболевания. Локализация и спектр проявлений псориазиформных поражений могут быть любыми, но, как правило, преимущественно вовлекаются область головы и шеи, разгибательные поверхности конечностей, кисти рук, стопы; нередко они сосуществуют с экзематозными высыпаниями, что значительно видоизменяет общую клиническую картину и приводит к диагностическим ошибкам [34].
Описанное явление в современной научной литературе носит название ПсЭма — состояние перекрытия, при котором клинические, гистологические, молекулярные и биологические аспекты наряду с ответом на проводимую терапию характерны как для псориаза, так и АтД/экземы; иначе говоря, характеристики 2 заболеваний совпадают и пересекаются между собой [35, 36]. В результате существует часть пациентов, у которых провести различие между псориазом и АтД клинически, а иногда и с помощью патоморфологического исследования является крайне сложной задачей. Одно из возможных объяснений формирования ПсЭма — переключение с Th2- на Th1-иммунный ответ, которое характерно для хронического течения АтД (так называемая конверсия болезни, наблюдающаяся у подростков и взрослых) и усугубляется при использовании таргетных препаратов. При этом дрожжевые грибы рода Malassezia способствуют развитию как высыпаний АтД, так и псориазиформных поражений по ранее описанным механизмам [37].
Длительное использование глюкокортикостероидов
К картине стероид-индуцированного дерматита (дерматит отмены), который в основном представлен периоральным дерматитом или стероид-индуцированной розацеа, часто приводит длительное использование в неадекватном режиме и количестве топических глюкокортикостероидов (тГКС) высокой и очень высокой активности с их последующей быстрой, чаще одномоментной, отменой. Подобные проявления также часто встречаются у пациентов, нуждающихся в постоянном использовании ингаляционных глюкокортикостероидов (ГКС) в связи с плохо контролируемым течением бронхиальной астмы. Поражения кожи представлены эритемой, папуло-пустулами, иногда телеангиоэктазиями и атрофией, локализуются в периоральной, периорбитальной областях, носогубных складках, а также могут распространяться на кожу подбородка и щек, сопровождаются шелушением кожи, чувством жжения, реже зудом [38]. Формирование картины дерматита отмены при хроническом воздействии тГКС обусловлено множеством факторов: развитием эпидермальной атрофии, дегенерацией дермальной структуры, образованием новых кровеносных сосудов и нарушением сосудистого тонуса (вазодилатация за счет накопленного на фоне использования тГКС оксида азота), а также высвобождением ряда провоспалительных цитокинов и активизацией условно-патогенной флоры, в частности дрожжевых грибов рода Malassezia, в результате снижения активности местного иммунного ответа и дисфункции сальных желез [39].
Современные подходы к лечению
Широко известно, что в качестве 1-й линии топической терапии АтД и ряда воспалительных патологий кожи выступают тГКС, демонстрирующие высокую клиническую эффективность и быстрое достижение необходимого терапевтического результата [40]. Однако, когда мы говорим о лечении АтД в контексте персистирующих поражений, затрагивающих чувствительные локализации, к которым относятся область головы (лицо, заушная область) и шеи, терапевтическая тактика должна включать топические средства, обладающие не только высокой эффективностью, но и благоприятным долгосрочным профилем безопасности.
Чувствительные или деликатные зоны лица и шеи (а также складок, сгибов, половых органов) являются таковыми по причине ряда характерных анатомических особенностей, которые включают меньшую толщину кожи в сравнении с другими участками кожного покрова, наличие богатой сети кровоснабжения и иннервации. Вместе с тем данные зоны более подвержены абсорбции наносимых в их пределах химических веществ, что значительно повышает риск развития местных нежелательных явлений, таких как атрофия, эритема, телеангиоэктазии, акнеформные высыпания при неадекватном использовании тГКС высокой и очень высокой активности [41]. Для сравнения: доля общей абсорбированной дозы наружных лекарственных веществ со всей площади поверхности тела для области век составляет приблизительно 30 %, для области лица и шеи — в среднем 7 %, тогда как в области туловища и предплечий это значение достигает 1–2 % [42].
Перечисленные свойства требуют обеспечения более мягких и щадящих подходов к терапии воспалительных дерматозов чувствительных локализаций. Наиболее предпочтительным является использование средств, характеризующихся минимальной системной абсорбцией, что позволит осуществить безопасное использование в течение длительного времени, требуемого для активной и поддерживающей терапии персистирующего дерматита в области головы и шеи. Кроме того, исходя из описанных механизмов и всевозможных причин появления рассматриваемого в статье состояния, становится ясно, что без индивидуализированного подхода с назначением персональных рекомендаций и топических средств, обладающих комбинированным действием, а иногда и системных препаратов, добиться стойкой положительной динамики будет невозможно (рис. 2).
Рис. 2. Алгоритм принятия решений для разработки индивидуальной тактики ведения пациента с атопическим дерматитом при наличии персистирующих высыпаний в области головы и шеи.
Примечание. АПЦ — активированный пиритион цинка; тГКС — топические глюкокортикостероиды; ТИК — топические ингибиторы кальциневрина; АБ — антибиотик; АМ — антимикотик.
Fig. 2. Decision-making algorithm for developing an individualized management strategy for patients with head and neck atopic dermatitis.
Note. AZP — activated zinc pyrithione; tGCS — topical glucocorticosteroids, TCI — topical calcineurin inhibitors; AB — antibiotic; AM — antimycotic.
Рис. 3. Динамика поражения кожи головы и шеи у пациентки с атопическим дерматитом на фоне использования крема и шампуня, содержащих активированный пиритион цинка.
Fig. 3. Resolution of head and neck atopic dermatitis following the use of cream and shampoo containing activated zinc pyrithione.
Воздействие на грибковую флору является основополагающим направлением в лечении как АтД с преимущественным поражением головы и шеи, так и персистирующего дерматита данных локализаций, ассоциированного с терапией дупилумабом. Согласно европейским рекомендациям следует рекомендовать местную противогрибковую терапию (тербинафин, кетоконазол, клотримазол в форме крема 1–2 раза в день в течение 4–6 нед или до полного регресса проявлений), которую можно использовать одновременно с нанесением топических ингибиторов кальциневрина (такролимус, пимекролимус), оказывающих синергетическое действие с противогрибковыми препаратами против Malassezia [43]. При выраженном воспалении и чувстве зуда можно использовать вместо топических ингибиторов кальциневрина тГКС высокой активности в форме крема в режиме 1–2 раза в день, однако их нанесение должно быть ограничено по времени, чтобы избежать развития нежелательных явлений. В случае не поддающихся местному лечению высыпаний или тяжелых проявлений в области головы и шеи может потребоваться назначение системной противогрибковой терапии, которая может проводиться в сочетании с указанными ранее топическими препаратами: итраконазол — 100–400 мг/сут в течение 1–4 нед в зависимости от клинического эффекта; кетоконазол — 200 мг/сут в течение 1–4 нед; флуконазол — 150–200 мг/нед в течение 2–4 нед (также может быть назначен в режиме 200 мг/сут в течение 7 последовательных дней 1 раз в месяц в течение 2 мес); тербинафин — 250 мг/сут в течение 1 мес с постепенным снижением дозы до 5-го месяца терапии [44–46].
Для большинства пациентов с тяжелыми проявлениями дерматита лица и шеи необходимо проводить лечение как минимум на протяжении 4 нед, после которых можно будет определить эффективность вмешательства и при необходимости скорректировать его [26, 44]. Например, у пациента с парадоксальной эритемой головы и шеи, вызванной терапией дупилумабом, при достижении клинически значимой положительной динамики на фоне итраконазола можно продолжить прием минимальной терапевтической дозы противогрибкового препарата (100 мг каждый день, через день или дважды в неделю) в течение более длительного периода для поддержания достигнутого эффекта на фоне дальнейшего получения пациентом биологического лечения [46]. При отсутствии улучшения клинической картины более рациональным решением будет провести смену таргетной терапии с дупилумаба на ингибитор янус-киназы (JAK) — упадацитиниб, барицитиниб или аброцитиниб, при этом наружную и/или системную противогрибковую терапию следует продолжить до полного регресса проявлений [47].
Гораздо более предпочтительным и удобным для пациента является назначение местных средств с противовоспалительными, противозудными и антимикробными свойствами, позволяющих достичь значительного улучшения кожного патологического процесса за короткий срок. Подобное всестороннее действие оказывают комбинированные тГКС, содержащие антибактериальный и противогрибковый компоненты, однако их применение должно быть ограничено по продолжительности и составлять не более 10–14 дней. Их использование подходит для купирования выраженных острых проявлений дерматита головы и шеи, но не для последующей длительной поддерживающей терапии, которая направлена на снижение риска развития рецидива, поскольку дрожжевые грибы рода Malassezia, являясь типичными представителями нормального микробиома кожи человека, не исчезают после проведенного лечения, что подчеркивает важность последующего контроля и поддержания их численности.
На основании сказанного одним из оптимальных терапевтических направлений, демонстрирующих высокую эффективность при лечении различных воспалительных дерматозов, включая АтД и состояния, ассоциированные с колонизацией кожи дрожжевыми грибами рода Malassezia, выступает назначение препаратов активированного пиритиона цинка (АПЦ) (Скин-кап), разрешенных для использования с 1 года жизни и представленных на рынке многообразными формами выпуска, такими как крем, аэрозоль, шампунь и косметическое средство в виде геля для душа, которые можно с легкостью подобрать для каждой клинической ситуации [48]. Средства, содержащие АПЦ, являются негормональными, обладают высоким профилем безопасности наряду с тройным механизмом действия, позволяющим не только оказать выраженное противомикробное, противовоспалительное и противозудное действие, но и обеспечить дополнительное увлажнение кожи благодаря имеющимся в составе крема глицерину, эфиру сахарозы и жирных кислот кокосового масла [49].
В основе антимикробного действия АПЦ лежат взаимодействие с фосфолипидами мембран микробных клеток и нарушение их целостности за счет деполяризации мембраны, а также резкое снижение синтеза АТФ и поглощения микроорганизмами энергетических субстратов, крайне необходимых для нормального функционирования и жизни. Не менее важным механизмом является повышение внутриклеточного уровня цинка, которое приводит к развитию окислительного стресса и гибели микроорганизмов. Вместе с этим происходят нарушение процессов трансмембранного переноса и связывание ионов металлов внутри микробной клетки за счет хелатируюшей способности АПЦ, вследствие чего нарушаются функции многих ключевых для нормальной жизнедеятельности ферментов и клеточных структур, в том числе наблюдаются подавление активности клеточного дыхания, ингибирование роста и снижение синтеза липидов; последнее особенно актуально для дрожжевых грибов рода Malassezia [50, 51].
Противовоспалительные свойства АПЦ во многом связаны с его противомикробным действием, но также опосредованы стабилизацией клеточных мембран путем нормализации активности ряда мембраносвязанных ферментов и уменьшением выработки медиаторов воспаления кератиноцитами и иммунными клетками в коже человека [52]. За счет снижения активности воспалительного процесса и уменьшения колонизации кожи грибами и бактериями АПЦ опосредует значительный противозудный эффект, дополняющийся ингибированием высвобождения из тучных клеток провоцирующего зуд кожи гистамина [53].
Кроме того, назначение препаратов АПЦ облегчает схему лечения пациентов, не требуя дополнительного использования других местных средств, что позволяет поддерживать высокую приверженность к лечению, а значит, и увеличить вероятность достижения стабильной и продолжительной ремиссии. При персистирующем дерматите лица и шеи крем с АПЦ будет использоваться в режиме 2 раза в день в течение 2–4 нед; при остаточной эритеме, инфильтрации и лихенификации кожи продолжительность использования может быть увеличена [54]. В качестве средств поддерживающей терапии, а также компонента активного лечения могут быть рекомендованы шампунь и гель для душа, содержащие АПЦ: их применение в начале лечения носит ежедневный однократный характер, который затем сменяется использованием в режиме 2–3 раза в неделю в течение длительного времени.
Псориазиформные высыпания у больных атопическим дерматитом
Тактика ведения пациентов с установленными псориазиформными высыпаниями на фоне АтД имеет определенные особенности, поскольку наружная терапия должна эффективно действовать на все имеющиеся проявления (как АтД, так и псориаза), а назначаемое системное лечение не должно еще больше нарушать и без того имеющийся иммунный дисбаланс. Не менее важным аспектом является более тщательный мониторинг состояния здоровья, требующий обследовать пациента на наличие псориатического артрита, сопутствующей аллергопатологии, а также исключить первые признаки воспалительных заболеваний кишечника — так называемые тревожные знаки: частые эпизоды боли в животе, диарея, стул с примесью крови, тенезмы.
Предпочтительным вариантом наружного лечения также выступают препараты АПЦ, обладающие антипролиферативным действием, необходимым для эффективного разрешения псориазиформных поражений кожи [52, 53]. В основе антипролиферативных свойств АПЦ лежит селективная активация апоптоза патологических кератиноцитов за счет высвобождения митохондриального цитохрома С, повышенной экспрессии проапоптогенных факторов и инициации оксидативного стресса, тогда как нормально функционирующие клетки не подвергаются отрицательному влиянию цинка пиритиона [52]. Крем АПЦ следует наносит на имеющиеся высыпания в режиме 2 раза в день до полного регресса, после чего он может применяться в качестве поддерживающей терапии 2–3 раза в неделю в течение длительного времени. Такого же режима следует придерживаться при использовании аэрозоля в случае возникновения высыпаний на волосистой части головы, дополняя активную терапию использованием шампуня с АПЦ [54].
Если на фоне описанной наружной терапии достигнут контроль над патологическим процессом, то терапия дупилумабом может быть продолжена. В противном случае таргетную терапию следует скорректировать, исходя из клинической картины превалирующих поражений кожи и наличия сопутствующих заболеваний [55]. Наиболее зарекомендовавшими себя вариантами системной терапии в таких случаях выступают ингибиторы JAK, особенно при доминировании признаков АтД в области головы и шеи [56–58].
Стероид-индуцированный дерматит
Ведение пациентов с АтД с преимущественным поражением кожи головы и шеи включает несколько возможных терапевтических стратегий. Важным шагом являются отмена всех неаптечных косметических средств, наносимых на область лица, исключение использования пациентом фторированных зубных паст и полная отмена тГКС. Применение назальных, ингаляционных и пероральных стероидов, необходимых по другим медицинским показаниям, следует продолжить, однако это увеличит время лечения. В таких случаях важно рекомендовать пациенту умывать лицо и полоскать рот после каждого использования назальных или ингаляционных средств, содержащих ГКС [59].
При возможности одномоментной полной отмены тГКС следует назначить препараты АПЦ или топические ингибиторы кальциневрина (пимекролимус крем 1 %) 2 раза в день до полного регресса высыпаний. В случае тяжелых форм дерматита следует вернуть первоначально используемый тГКС и постепенно уменьшать частоту его нанесения с дальнейшим переходом на тГКС меньшей активности в форме крема и последующей заменой тГКС на препараты АПЦ или топические ингибиторы кальциневрина [60, 61]. Если на фоне постепенной отмены тГКС возникает обострение, крайне важно не возобновлять их повторное нанесение, а интенсифицировать наружную терапию другими противовоспалительными местными средствами.
Средняя продолжительность лечения, необходимая для разрешения высыпаний, в большинстве случаев составляет не менее 4–8 нед (при условии одномоментной полной отмены тГКС и других стероидсодержащих препаратов), но может потребоваться и более продолжительный срок (4–6 мес); при более коротких курсах лечения отмечается высокий риск развития рецидивов [62].
При наличии тяжелых проявлений стероид-индуцированного дерматита дополнительно назначаются антибактериальные препараты, такие как тетрациклин, доксициклин или макролиды (кларитромицин, эритромицин 250 мг 2 раза в день — при лечении пациентов детского возраста), принимаемые в течение нескольких месяцев (1–3 или более) [1, 63]. В случае наличия телеангиэктазий после купирования основного патологического процесса может быть рекомендована их обработка импульсными лазерами на красителе. Увлажнение и очищение кожи проводятся специализированными средствами аптечной дерматокосметики для чувствительной кожи, предпочтительными формами являются лосьон, нежирный крем легкой текстуры, очищающий крем-гель или гель.
Общие рекомендации
Важное значение при наличии персистирующих высыпаний в области головы и шеи у пациентов с АтД играют выявление и купирование симптомов сопутствующих аллергических заболеваний: сезонного/круглогодичного аллергического риноконъюнктивита, бронхиальной астмы. В ведении таких пациентов необходим междисциплинарный подход, включающий участие врача-дерматолога и аллерголога. Установление факта наличия сенсибилизации к аэроаллергенам у пациентов с обострением респираторных аллергических заболеваний и симптомов АтД на открытых участках кожи, включая область головы и шеи, подвергающихся в большей степени контакту с аллергенами, служит важным показателем необходимости коррекции проводимого лечения, составления индивидуальных элиминационных рекомендаций для снижения экспозиции значимых аллергенов, проведения аллергенспецифической иммунотерапии [1, 64].
Ухудшение высыпаний на открытых участках тела при воздействии на кожу аллергенов, находящихся в воздухе, требует назначения специализированных эмолентов, поддерживающих структурно-функциональную целостность эпидермального барьера, антигистаминных препаратов нового поколения, которые используются в том числе для контроля сопутствующих аллергических заболеваний; однако в большинстве случаев их влияние на выраженность чувства зуда незначительно [65].
При подозрении на аллергический контактный дерматит следует установить раздражитель и исключить дальнейший контакт с ним пациента. Во многом этому помогает проведение патч-теста (аппликационный кожный тест). Терапия заключается в использовании тГКС и антигистаминных препаратов нового поколения [66].
Обсуждение
В качестве материала для обсуждения приведем собственный опыт, подкрепленный показательными клиническими примерами из практики курации пациентов с АтД и трудно поддающимися лечению высыпаниями в области лица и шеи.
Клинический случай 1
Пациентка, 12 лет, длительно страдала АтД среднетяжелого течения (EASI — 13,6 балла) с рецидивирующими высыпаниями в области головы и шеи независимо от сезона года. Симптомов других аллергических заболеваний не выявлено, семейный анамнез атопическими заболеваниями не отягощен. Пациентка отмечала ухудшение высыпаний после физической активности и повышения потоотделения, жаловалась на выраженный зуд. Родители отмечали необходимость ношения девочкой маек и водолазок, позволяющих ей закрывать смущающие ее высыпания в области верхней части туловища и шеи. Ребенок тревожный, имел трудности с засыпанием, частые пробуждения, в том числе в связи с ночным чувством зуда указанных локализаций, включая волосистую часть головы, где наблюдались множественные экскориации, воспалительная эритема и мелкопластинчатое шелушение. Длительно используемые в чувствительных зонах монокомпонентные тГКС высокой активности в форме крема не имели значительного эффекта.
Проведена комплексная терапия с назначением крема АПЦ 2 раза в день на область лица (в том числе веки) и шеи в течение 14 дней, аэрозоля АПЦ 1 раз в день на ночь на область беспокоящих высыпаний на волосистой части головы, даны рекомендации по использованию 3 раза в неделю шампуня с АПЦ на протяжении 2 мес. На фоне проведенной терапии в области лица и шеи отмечался полный регресс высыпаний, пациентка не предъявляла жалоб на чувство зуда, родители отметили улучшение психоэмоционального состояния ребенка (рис. 3).
Описанный клинический случай демонстрирует типичную ситуацию рецидивирующих высыпаний преимущественно в области головы и шеи, связанных с нарушением микробиома кожи и превалированием в себорейных зонах дрожжевых грибов рода Malassezia. Для поддержания достигнутого эффекта и количества дрожжевых грибов рода Malassezia на коже пациентке потребуется периодически (2–3 раза в год) повторять курс использования шампуня с АПЦ. В качестве средства для проактивной терапии АтД головы и шеи может быть использован пимекролимус крем 1 %. При появлении новых воспалительных очагов следует применять крем с АПЦ в прежнем режиме до полного регресса.
Клинический случай 2
Пациент, 14 лет, длительно наблюдался с диагнозом «атопический дерматит тяжелого, рецидивирующего течения, осложненный вторичной микробной инфекцией». Клиническая картина представляла собой типичный для АтД кожный патологический процесс с вовлечением области головы и шеи (EASI — 26,2 балла), который сопровождался выраженным зудом. При осмотре пациента отмечались выраженный ксероз кожи, гиперлинейность ладоней, клинически указывающие на наличие патогенного варианта гена филаггрина и дисфункцию эпидермального барьера. Пациент длительное время получал тГКС, антигистаминные препараты и курсы системных стероидов для купирования обострений. Традиционная терапия АтД, включая курсы фототерапии UVB 311 нм, позволяла добиться лишь кратковременного незначительного улучшения.
Проведена инициация биологической терапии препаратом дупилумаб, рекомендовано использование препаратов АПЦ, в том числе для поддерживающей терапии. На этом фоне отмечалась значительная положительная динамика с достижением 90 % улучшения по индексу EASI (достижение EASI 90) ко 2-му месяцу терапии, к 3-му месяцу достигнут полный регресс высыпаний (индикаторный показатель EASI 100). Однако на 4-м месяце наблюдения отмечались появление новых высыпаний, преимущественно в области головы и шеи, усиление чувства зуда, возникновение заложенности носа. По месту жительства данная отрицательная динамика была расценена как нежелательное явление, ассоциированное с лечением дупилумабом, назначена противогрибковая терапия (кетоконазол крем) — без значительного эффекта.
При повторном поступлении в дерматологический стационар заподозрены ухудшение кожного патологического процесса и развитие проявлений аллергического ринита на фоне начала весенне-летнего сезона цветения. Проведена консультация аллерголога, методом ImmunoCAP подтверждена сенсибилизация к пыльце деревьев (береза) и луговых трав (тимофеевка), выставлен диагноз «сезонный аллергический ринит, стадия обострения», даны рекомендации по гипоаллергенному режиму, назначена терапия назальными кортикостероидами и антигистаминными препаратами нового поколения, запланировано проведение аллергенспецифической иммунотерапии перед следующим сезоном цветения. Продолжена терапия препаратом дупилумаб, интенсифицирована наружная терапия: крем АПЦ в режиме 2 раза в день в течение 20 дней; затем 3 раза в неделю для уменьшения проявлений лихенификации кожи в области шеи — мытье волосистой части головы и тела шампунем и гелем для душа, содержащими АПЦ; 2 раза в неделю — длительно; даны рекомендации по использованию аптечных эмолентов легкой текстуры 2 раза в день, в том числе перед выходом на улицу. На этом фоне достигнута значительная положительная динамика, которая оставалась стабильной весь период цветения и не требовала отмены/замены препарата биологической терапии (рис. 4).
Рис. 4. Положительная динамика в виде регресса воспалительных высыпаний и уменьшения проявлений лихенификации кожи в области головы и шеи на фоне назначения препаратов с активированным пиритионом цинка у пациента 14 лет с атопическим дерматитом и сезонным аллергическим ринитом.
Fig. 4. Regression of inflammatory lesions and lichenification in the head and neck area following adjusted therapy in a 14-year-old patient with atopic dermatitis and allergic rhinitis.
Данный клинический случай убедительно демонстрирует связь рецидивирующих высыпаний в области головы и шеи не только с грибковой колонизацией кожи, но и с воздействием аэроаллергенов в сезон с высокой пыльцевой нагрузкой у сенсибилизированного пациента с наличием дефектного эпидермального барьера. Нет необходимости в отмене таргетной терапии, продолжение которой требуется лишь дополнить скорректированными назначениями врача-дерматолога и рекомендациями аллерголога. Важно помнить, что время начала сезона цветения, его продолжительность и концентрация пыльцы в воздухе зависят от климатических и температурных изменений окружающей среды: более высокая продукция пыльцы и раннее начало сезона цветения отмечаются в более теплые годы и в местах с повышенными температурами, таких как городские районы. Последние также характеризуются повышением аллергенности пыльцы березы и других растений, что связано с высоким уровнем загрязнения воздуха [21]. При установлении сенсибилизации к пыльцевым аллергенам также важно исключить ее наличие к бытовым и грибковым аллергенам.
Клинический случай 3
Пациент, 17 лет, длительно страдал АтД тяжелого, рецидивирующего течения с указанием на ранее купированные системными ГКС эпизоды эритродермии, неэффективность наружной терапии и недостаточную эффективность системной терапии циклоспорином. При поступлении пациент не демонстрировал характерных высыпаний в области головы и шеи, связанных с гиперколонизацией кожи дрожжевыми грибами Malassezia; индекс EASI — 23,6 балла; сопутствующие аллергические заболевания не установлены.
После дообследования пациенту проведена инициация биологической терапии препаратом дупилумаб. В течение первых 2 мес лечения отмечалась значительная положительная динамика: пациент достиг 75 % улучшения первоначальных значений индекса EASI (достижение EASI 75), отмечал значительное снижение чувства зуда. Несмотря на это, к 3-му месяцу терапии появились новые высыпания в области головы и шеи, представленные эритематозными пятнами, сопровождающиеся шелушением и жжением, которые трудно поддавались наружной противовоспалительной и противогрибковой терапии. Назначение итраконазола 100 мг/сут в течение 6 нед также не показало положительной динамики. С учетом ухудшения кожного процесса и отсутствия удовлетворительного ответа на проводимую терапию топическими и системными противогрибковыми средствами принято решение об отмене дупилумаба и назначении пациенту ингибитора JAK — препарата упадацитиниб. Также даны рекомендации по ежедневному использованию крема и шампуня с АПЦ, системная терапия итраконазолом отменена.
Через 1 мес лечения отмечался полный регресс дерматита лица и шеи, ассоциированного с использованием дупилумаба; также достигнут полный контроль над проявлениями АтД. Местная противогрибковая терапия в дальнейшем была отменена, во время последующего наблюдения за пациентом новых эпизодов появления высыпаний в области головы и шеи на фоне приема упадацитиниба не отмечалось (рис. 5).
Рис. 5. Разрешение парадоксальной эритемы головы и шеи, ассоциированной с дупилумабом, на фоне смены терапии на ингибитор янус-киназы и использования топических препаратов активированного пиритиона цинка у пациента 17 лет.
Fig. 5. Resolution of paradoxical erythema of the head and neck associated with dupilumab, following a change in therapy to a Janus-kinase inhibitor and the use of topical activated zinc pyrithione in a 17-year-old patient.
По нашим наблюдениям, включающим более 300 пациентов с АтД детского возраста (от 6 месяцев до 18 лет), получавших терапию дупилумабом, подобное развитие de novo высыпаний в области головы и шеи, не проходящих на фоне адекватного лечения, является очень редким, но возможным событием. Современные данные указывают на то, что пациенты взрослого и подросткового возраста, особенно имеющие в анамнезе эпизоды атопической эритродермии, страдающие от сильного зуда и высыпаний в области головы и шеи, в том числе на фоне терапии дупилумабом, с отсутствием достижения контроля над патологическим процессом являются группой, которой наиболее показано назначение ингибиторов JAK [67].
В целом описанный нами опыт согласуется с данными отечественных коллег, использующих препараты АПЦ в комплексной терапии АтД, а также подтверждает возможность применения этих средств для контроля микробиома кожи и уменьшения потребности в топических кортикостероидах, описанных в зарубежной литературе [52, 68, 69].
Заключение
Персистирующие высыпания в области головы и шеи у пациентов с АтД, особенно при их развитии в начале биологической терапии дупилумабом, представляют собой уникальную терапевтическую проблему по причине недостаточно изученной этиологии и патогенеза, а также отсутствия единых рекомендаций по дальнейшей тактике ведения и оптимальным схемам терапии. Актуальность дерматита головы и шеи во многом связана как с распространенностью данного явления, так и с возможной необходимостью прекращения таргетной терапии, что подчеркивает важность быстрого распознавания и обеспечения надлежащего лечения для уменьшения дистресса пациента и предотвращения прерывания лечения.
Нами представлено современное понимание основных аспектов этого патологического процесса, который во многом остается противоречивым, а представленные методы лечения ограничены данными реальной клинической практики, которые требуют дальнейшего изучения для улучшения и рационализации методов воздействия. На текущий момент очевидным является обеспечение противовоспалительного и противомикробного эффектов в течение длительного времени с помощью современных средств наружной терапии, не вызывающих нежелательных явлений, что во многом может быть достигнуто с помощью топических препаратов, содержащих АПЦ.
Тем не менее нужно помнить, что тактика ведения пациента должна носить индивидуальный характер, который во многом будет зависеть от эффективности проводимой терапии, а также основываться на исключении других возможных причин и патологий, связанных с поражением кожи головы и шеи.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ADDITIONAL INFORMATION
Источник финансирования. Исследование и подготовка публикации проведены при поддержке компании Invar.
Конфликт интересов. Р.А. Иванов — исследовательские гранты от фармацевтических компаний Pfizer, Amryt Pharma plc, гонорары за научное консультирование от компаний AbbVie, L’Oréal, Pierre Fabre, NAOS, Sanofi, Novartis, Glenmark; Н.Н. Мурашкин — исследовательские гранты от фармацевтических компаний Janssen, Eli Lilly, Novartis, AbbVie, Pfizer, Amryt Pharma plc; гонорары за научное консультирование от компаний Galderma, L’Oréal, NAOS, Pierre Fabre, Bayer, LEO Pharma, Pfizer, Sanofi, Novartis, AbbVie, Glenmark, Janssen, Invar, Librederm, Viatris, JGL, B. Braun, Swixx BioPharma. Остальные авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с проведенным исследованием и публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. Р.А. Иванов — обзор литературы, сбор и анализ источников литературы, написание и редактирование статьи; Н.Н. Мурашкин — редактирование и рецензирование статьи; О.А. Ерешко, Е.С. Павлова, Р.В. Епишев — курация, лечение пациентов, предоставление материала для описания клинических случаев. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Согласие на публикацию. Пациенты и их законные представители добровольно подписали форму информированного согласия на публикацию персональной медицинской информации в обезличенной форме в Российском аллергологическом журнале.
Funding source. This work was supported by the Invar company.
Competing interests. R.A. Ivanov — research grants from pharmaceutical companies Pfizer and Amryt Pharma plc, honoraria for scientific consulting from AbbVie, L’Oréal, Pierre Fabre, NAOS, Sanofi, Novartis, and Glenmark; N.N. Murashkin — research grants from pharmaceutical companies Janssen, Eli Lilly, Novartis, AbbVie, Pfizer, and Amryt Pharma plc, honoraria for scientific consulting from Galderma, L’Oréal, NAOS, Pierre Fabre, Bayer, LEO Pharma, Pfizer, Sanofi, Novartis, AbbVie, Glenmark, Janssen, Invar, Librederm, Viatris, JGL, B. Braun, and Swixx BioPharma. Other authors declare no actual or potential conflicts of interest related to the conducted research and the publication of this article.
Authors’ contribution. R.A. Ivanov — literature review, collection and analysis of literary sources, writing and editing the article; N.N. Murashkin — editing and peer reviewing the article; O.A. Ereshko, E.S. Pavlova, R.V. Epishev — supervision, patient treatment, provision of material for the description of clinical cases. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
Consent for publication. Written consent was obtained from the patient and patient’s legal representative for publication of relevant medical information and all of accompanying images within the manuscript.
About the authors
Roman A. Ivanov
National Medical Research Center of Children’s Health
Author for correspondence.
Email: isxiks@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0081-0981
SPIN-code: 5423-8683
Cand. Sci. (Medicine)
Россия, MoscowNikolay N. Murashkin
National Medical Research Center of Children’s Health; The First Sechenov Moscow State Medical University (Sechenov University); Central State Medical Academy
Email: m_nn2001@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2252-8570
SPIN-code: 5906-9724
Dr. Sci. (Medicine), Professor
Россия, Moscow; Moscow; MoscowOksana A. Ereshko
National Medical Research Center of Children’s Health
Email: ksenya2005@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0002-1650-652X
SPIN-code: 3893-9946
Cand. Sci. (Medicine)
Россия, MoscowEkaterina S. Pavlova
National Medical Research Center of Children’s Health
Email: kat-rin-ps@yandex.ru
ORCID iD: 0009-0003-5367-3268
SPIN-code: 5930-8344
Россия, Moscow
Roman V. Epishev
National Medical Research Center of Children’s Health
Email: drepishev@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-4107-4642
SPIN-code: 5162-7846
Cand. Sci. (Medicine)
Россия, MoscowReferences
- Maarouf M, Saberian C, Lio PA, Shi VY. Head-and-neck dermatitis: diagnostic difficulties and management pearls. Pediatr Dermatol. 2018;35(6):748–753. doi: 10.1111/pde.13642
- Guglielmo A, Sechi A, Patrizi A, et al. Head and neck dermatitis, a subtype of atopic dermatitis induced by Malassezia spp: clinical aspects and treatment outcomes in adolescent and adult patients. Pediatr Dermatol. 2021;38(1):109–114. doi: 10.1111/pde.14437 EDN: ALDVZC
- Chong AC, Navarro-Triviño FJ, Su M, Park CO. Fungal head and neck dermatitis: current understanding and management. Clin Rev Allergy Immunol. 2024;66(3):363–375. doi: 10.1007/s12016-024-09000-7 EDN: YUTNQK
- Navarro-Triviño FJ, Ruiz-Villaverde R. Patterns of head and neck dermatitis in patients treated with dupilumab: differential diagnosis and treatment. Actas Dermosifiliogr. 2022;113(3):219–221. (In English, Spanish) doi: 10.1016/j.ad.2021.06.010 EDN: QMTZSW
- Chiricozzi A, Gori N, Di Nardo L, et al. Therapeutic impact and management of persistent head and neck atopic dermatitis in dupilumab-treated patients. Dermatology. 2022;238(4):717–724. doi: 10.1159/000519361 EDN: ZHILLF
- Park Y, Park CO, Yoon SS, et al. Exploring the potential of “the” Staphylococcus epidermidis strain in alleviating atopic dermatitis symptoms. J Allergy Clin Immunol. 2024;153(2):AB65. doi: 10.1016/j.jaci.2023.11.225 EDN: OLNENB
- Szczepańska M, Blicharz L, Nowaczyk J, et al. The role of the cutaneous mycobiome in atopic dermatitis. J Fungi. 2022;8(11):1153. doi: 10.3390/jof8111153 EDN: WUXASM
- Wu Z, Yu H, Chen Z, et al. Malassezia globosa aggravates atopic dermatitis by influencing the Th1/Th2 related cytokines in mouse models. Clin Cosmet Investig Dermatol. 2025;18:837–844. doi: 10.2147/CCID.S517415
- Saunte DML, Gaitanis G, Hay RJ. Malassezia-associated skin diseases, the use of diagnostics and treatment. Front Cell Infect Microbiol. 2020;10:112. doi: 10.3389/fcimb.2020.00112 EDN: ZUNLND
- Hiragun T, Ishii K, Hiragun M, et al. Fungal protein MGL_1304 in sweat is an allergen for atopic dermatitis patients. J Allergy Clin Immunol. 2013;132(3):608–615.e4. doi: 10.1016/j.jaci.2013.03.047
- Nowicka D, Nawrot U. Contribution of Malassezia spp. to the development of atopic dermatitis. Mycoses. 2019;62(7):588–596. doi: 10.1111/myc.12913
- Pellefigues C. IgE autoreactivity in atopic dermatitis: paving the road for autoimmune diseases? Antibodies. 2020;9(3):47. doi: 10.3390/antib9030047 EDN: PUEQTU
- Balaji H, Heratizadeh A, Wichmann K, et al. Malassezia sympodialis thioredoxin-specific T cells are highly cross-reactive to human thioredoxin in atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2011;128(1):92–99.e4. doi: 10.1016/j.jaci.2011.02.043
- Glatz M, Bosshard P, Schmid-Grendelmeier P. The role of fungi in atopic dermatitis. Immunol Allergy Clin North Am. 2017;37(1):63–74. doi: 10.1016/j.iac.2016.08.012
- Oberacker T, Kraft L, Schanz M, et al. The Importance of Thioredoxin-1 in health and disease. Antioxidants. 2023;12(5):1078. doi: 10.3390/antiox12051078 EDN: DGIKMO
- Celakovska J, Vankova R, Bukac J, et al. Atopic dermatitis and sensitisation to molecular components of Alternaria, Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, and Malassezia — results of Allergy Explorer ALEX 2. J Fungi (Basel). 2021;7(3):183. doi: 10.3390/jof7030183 EDN: QDZFHU
- Goh JPZ, Ruchti F, Poh SE, et al. The human pathobiont Malassezia furfur secreted protease Mfsap1 regulates cell dispersal and exacerbates skin inflammation. Proc Natl Acad Sci USA. 2022;119(49):e2212533119. doi: 10.1073/pnas.2212533119
- Harvey-Seutcheu C, Hopkins G, Fairclough LC. The role of extracellular vesicles in atopic dermatitis. Int J Mol Sci. 2024;25(6):3255. doi: 10.3390/ijms25063255 EDN: GPKWGL
- Sparber F, De Gregorio C, Steckholzer S, et al. The skin commensal yeast Malassezia triggers a type 17 response that coordinates anti-fungal immunity and exacerbates skin inflammation. Cell Host Microbe. 2019;25(3):389–403.e6. doi: 10.1016/j.chom.2019.02.002
- Rothenberg-Lausell C, Bar J, Del Duca E, Guttman-Yassky E. Diversity of atopic dermatitis and selection of immune targets. Ann Allergy Asthma Immunol. 2024;132(2):177–186. doi: 10.1016/j.anai.2023.11.020 EDN: XWSKSB
- Luschkova D, Zeiser K, Ludwig A, Traidl-Hoffmann C. Atopic eczema is an environmental disease. Allergol Select. 2021;5:244–250. doi: 10.5414/ALX02258E EDN: KEQJSL
- Tamagawa-Mineoka R, Katoh N. Atopic dermatitis: identification and management of complicating factors. Int J Mol Sci. 2020;21(8):2671. doi: 10.3390/ijms21082671 EDN: ISDBUL
- Lachapelle JM. Airborne contact dermatitis. In: Rustemeyer T, Elsner P, John SM, I. Maibach H, editors, Kanerva’s occupational dermatology. Springer; 2012. P:175–184. doi: 10.1007/978-3-642-02035-3_17
- Samia AM, Cuervo-Pardo L, Montanez-Wiscovich ME, Cavero-Chavez VY. Dupilumab-associated head and neck dermatitis with ocular involvement in a ten-year-old with atopic dermatitis: a case report and review of the literature. Cureus. 2022;14(7):e27170. doi: 10.7759/cureus.27170 EDN: LIFMVE
- Bax CE, Khurana MC, Treat JR, et al. New-onset head and neck dermatitis in adolescent patients after dupilumab therapy for atopic dermatitis. Pediatr Dermatol. 2021;38(2):390–394. doi: 10.1111/pde.14499 EDN: UWKAVS
- Muzumdar S, Skudalski L, Sharp K, Waldman RA, et al. Dupilumab facial redness/dupilumab facial dermatitis: a guide for clinicians. Am J Clin Dermatol. 2022;23(1):61–67. doi: 10.1007/s40257-021-00646-z EDN: HMHAWQ
- Kozera E, Stewart T, Gill K, et al. Dupilumab-associated head and neck dermatitis is associated with elevated pretreatment serum Malassezia-specific IgE: a multicentre, prospective cohort study. Br J Dermatol. 2022;186(6):1050–1052. doi: 10.1111/bjd.21019 EDN: WHWXTE
- Navarro-Triviño FJ, Ayén-Rodríguez Á. Study of hypersensitivity to Malassezia furfur in patients with atopic dermatitis with head and neck pattern: is it useful as a biomarker and therapeutic indicator in these patients? Life (Basel). 2022;12(2):299. doi: 10.3390/life12020299 EDN: WRMFNH
- Bangert C, Alkon N, Chennareddy S, et al. Dupilumab-associated head and neck dermatitis shows a pronounced type 22 immune signature mediated by oligoclonally expanded T cells. Nat Commun. 2024;15(1):2839. doi: 10.1038/s41467-024-46540-0 EDN: XHZPPY
- Igelman SJ, Na C, Simpson EL. Alcohol-induced facial flushing in a patient with atopic dermatitis treated with dupilumab. JAAD Case Rep. 2020;6(2):139–140. doi: 10.1016/j.jdcr.2019.12.002 EDN: WZFNDO
- Herz S, Petri M, Sondermann W. New alcohol flushing in a patient with atopic dermatitis under therapy with dupilumab. Dermatol Ther. 2019;32(1):e12762. doi: 10.1111/dth.12762
- Brownstone ND, Reddy V, Thibodeaux Q, et al. Dupilumab-induced facial flushing after alcohol consumption. Cutis. 2021;108(2):106–107. doi: 10.12788/cutis.0316 EDN: RNBZAO
- Abramovits W, Cockerell C, Stevenson LC, et al. PsEma — a hitherto unnamed dermatologic entity with clinical features of both psoriasis and eczema. Skinmed. 2005;4(5):275–281. doi: 10.1111/j.1540-9740.2005.03636.x
- Tsai YC, Tsai TF. Overlapping features of psoriasis and atopic dermatitis: from genetics to immunopathogenesis to phenotypes. Int J Mol Sci. 2022;23(10):5518. doi: 10.3390/ijms23105518 EDN: QSQLZP
- Barry K, Zancanaro P, Casseres R, et al. Concomitant atopic dermatitis and psoriasis — a retrospective review. J Dermatolog Treat. 2021;32(7):716–720. doi: 10.1080/09546634.2019.1702147
- Ali K, Wu L, Qiu Y, Li M. Case report: clinical and histopathological characteristics of psoriasiform erythema and de novo IL-17A cytokines expression on lesioned skin in atopic dermatitis children treated with dupilumab. Front Med (Lausanne). 2022;9:932766. doi: 10.3389/fmed.2022.932766 EDN: BAWQLZ
- Czarnowicki T, He H, Canter T, et al. Evolution of pathologic T-cell subsets in patients with atopic dermatitis from infancy to adulthood. J Allergy Clin Immunol. 2020;145(1):215–228. doi: 10.1016/j.jaci.2019.09.031 EDN: HAPKFP
- Bhat YJ, Manzoor S, Qayoom S, et al. Steroid-induced rosacea: a clinical study of 200 patients. Indian J Dermatol. 2011;56(1):30–32. doi: 10.4103/0019-5154.77547
- Mokronosova MA, Glushakova AM, Golysheva EV. Evidence of lack of withdrawal syndrom of pyrithione zinc: antimycotic activity of pyrithione zinc. Russian Journal of Clinical Dermatology and Venereology. 2008;5:69–72. (In Russ.)
- Wollenberg A, Kinberger M, Arents B, et al. European Guideline (EuroGuiDerm) on atopic eczema: living update. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2025;39: 1–30. doi: 10.1111/jdv.20639
- Goel A, Mahendra A, Gupta S. Clinical and dermoscopic evaluation of patients with topical steroid damaged faces (TSDF). Cureus. 2024;16(11):e74624. doi: 10.7759/cureus.74624 EDN: RKUNVX
- Uva L, Miguel D, Pinheiro C, et al. Mechanisms of action of topical corticosteroids in psoriasis. Int J Endocrinol. 2012;2012:561018. doi: 10.1155/2012/561018
- Sugita T, Tajima M, Ito T, et al. Antifungal activities of tacrolimus and azole agents against the eleven currently accepted Malassezia species. J Clin Microbiol. 2005;43(6):2824–2829. doi: 10.1128/JCM.43.6.2824-2829.2005
- Chang CH, Stein SL. Malassezia-associated skin diseases in the pediatric population. Pediatr Dermatol. 2024;41(5):769–779. doi: 10.1111/pde.15603
- Ruiz-Villaverde R, Hospitalario de Granada C, Sánchez-Cano D, et al. Head and neck dermatitis: successful response to terbinafine. J Am Acad Dermatol. 2018;79(3 Suppl 1):AB150. doi: 10.1016/j.jaad.2018.05.620
- Ruiz-Villaverde R, Sánchez-Cano D, López-Delgado D. Dermatitis of the face and neck: response to itraconazole. Actas Dermosifiliogr. 2018;109(9):829–831. (In English, Spanish). doi: 10.1016/j.ad.2017.08.017
- Zemlok SK, Yu J. ABCs of biologics in pediatric eczema: an updated review on the safety and efficacy of systemic treatments for pediatric atopic dermatitis and future directions. Curr Derm Rep. 2024;13:262–273. doi: 10.1007/s13671-024-00455-7 EDN: FUUKOT
- Leong C, Wang J, Toi MJ, et al. Effect of zinc pyrithione shampoo treatment on skin commensal Malassezia. Med Mycol. 2021;59(2):210–213. doi: 10.1093/mmy/myaa068 EDN: VAVYGK
- Kruglova LS, Bakulev AL, Kokhan MM, et al. Expert Consensus on practical issues of using topical activated zinc pyrithione in dermatology. Medical Alphabet. 2025;(8):126–130. (In Russ.) doi: 10.33667/2078-5631-2025-8-126-130
- Reeder NL, Kaplan J, Xu J, et al. Zinc pyrithione inhibits yeast growth through copper influx and inactivation of iron-sulfur proteins. Antimicrob Agents Chemother. 2011;55(12):5753–5760. doi: 10.1128/AAC.00724-11
- Reeder NL, Xu J, Youngquist RS, et al. The antifungal mechanism of action of zinc pyrithione. Br J Dermatol. 2011;165 (Suppl 2:)9–12. doi: 10.1111/j.1365-2133.2011.10571.x
- Mangion SE, Holmes AM, Roberts MS. Targeted delivery of zinc pyrithione to skin epithelia. Int J Mol Sci. 2021;22(18):9730. doi: 10.3390/ijms22189730 EDN: GCWYKR
- Sadeghian G, Ziaei H, Nilforoushzadeh MA. Treatment of localized psoriasis with a topical formulation of zinc pyrithione. Acta Dermatovenerol Alp Pannonica Adriat. 2011;20(4):187–190.
- Use of skin-cap (activated zinc pyrithione) in the therapy of chronic dermatoses. Vestnik Dermatologii i Venerologii. 2010;86(1):48–56. (In Russ.) doi: 10.25208/vdv821
- Patruno C, Fabbrocini G, De Lucia M, et al. Psoriasiform dermatitis induced by dupilumab successfully treated with upadacitinib. Dermatol Ther. 2022;35(11):e15788. doi: 10.1111/dth.15788 EDN: FQSEIH
- Chovatiya R, Paller AS. JAK inhibitors in the treatment of atopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 2021;148(4):927–940. doi: 10.1016/j.jaci.2021.08.009 EDN: WNFPJW
- Gargiulo L, Ibba L, Malagoli P, et al. Management of patients affected by moderate-to-severe atopic dermatitis with JAK inhibitors in real-world clinical practice: an Italian Delphi Consensus. Dermatol Ther (Heidelb). 2024;14(4):919–932. doi: 10.1007/s13555-024-01135-x EDN: JQZKEO
- Napolitano M, Foggia L, Patruno C, et al. Efficacy of Janus kinase inhibitors in the treatment of psoriasiform atopic dermatitis. Clin Exp Dermatol. 2024;49(10):1232–1234. doi: 10.1093/ced/llae162 EDN: DPGOXW
- Dubus JC, Marguet C, Deschildre A, et al. Local side-effects of inhaled corticosteroids in asthmatic children: influence of drug, dose, age, and device. Allergy. 2001;56(10):944–948. doi: 10.1034/j.1398-9995.2001.00100.x EDN: ETJKWD
- Goel NS, Burkhart CN, Morrell DS. Pediatric periorificial dermatitis: clinical course and treatment outcomes in 222 patients. Pediatr Dermatol. 2015;32(3):333–336. doi: 10.1111/pde.12534
- Перламутров Ю.Н., Ольховская К.Б.. Лечение «дерматита отмены» после применения топических глюкокортикостероидов с использованием активированного цинка пиритиона. Вестник дерматологии и венерологии. 2011;87(6):63–67. doi: 10.25208/vdv1091 EDN: ONVCEP
- Weston WL, Morelli JG. Steroid rosacea in prepubertal children. Arch Pediatr Adolesc Med. 2000;154(1):62–64.
- Rosso JQ. Management of papulopustular rosacea and perioral dermatitis with emphasis on iatrogenic causation or exacerbation of inflammatory facial dermatoses: use of doxycycline-modified release 40 mg capsule once daily in combination with properly selected skin care as an effective therapeutic approach. J Clin Aesthet Dermatol. 2011;4(8):20–30.
- Kubanov AA, Namazova-Baranova LS, Khaitov RM. et al. Atopic dermatitis. Russian Journal of Allergy. 2021;18(3):44–92. (In Russ.) doi: 10.36691/RJA1474 EDN: UXCPWL
- Hostetler SG, Kaffenberger B, Hostetler T, Zirwas MJ. The role of airborne proteins in atopic dermatitis. J Clin Aesthet Dermatol. 2010;3(1):22–31.
- Gangadharan G. Non-pharmacological interventions in the management of atopic dermatitis. J Skin Sex Transm Dis. 2021;3(2):130–135. doi: 10.25259/JSSTD_12_2021 EDN: BIGYAC
- Calabrese L, D’Onghia M, Lazzeri L, et al. Blocking the IL-4/IL-13 axis versus the JAK/STAT pathway in atopic dermatitis: how can we choose? J Pers Med. 2024;14(7):775. doi: 10.3390/jpm14070775 EDN: QHHVQI
- Litovkina AO, Smolnikov EV, Elisyutina OG, Fedenko ES. Activated zinc pyrithione in topical treatment of atopic dermatitis: a case report. Russian Journal of Allergy. 2024;21(2):305–312. (In Russ.) doi: 10.36691/RJA16947 EDN: CZKBJO
- Xu Z, Liu X, Niu Y, et al. Skin benefits of moisturising body wash formulas for children with atopic dermatitis: a randomised controlled clinical study in China. Australas J Dermatol. 2020;61(1):e54–e59. doi: 10.1111/ajd.13153
Supplementary files