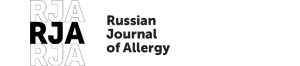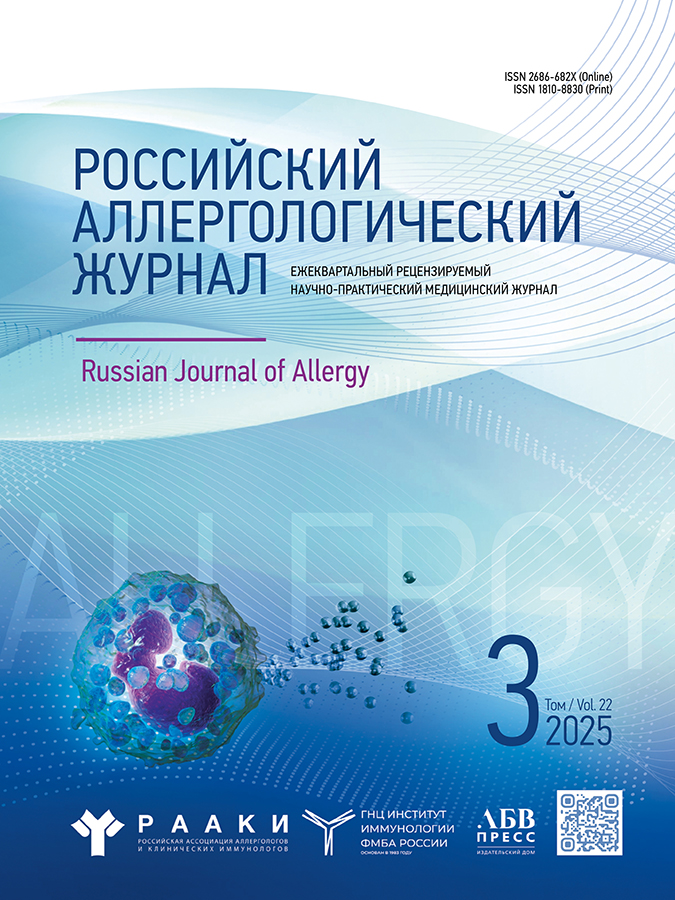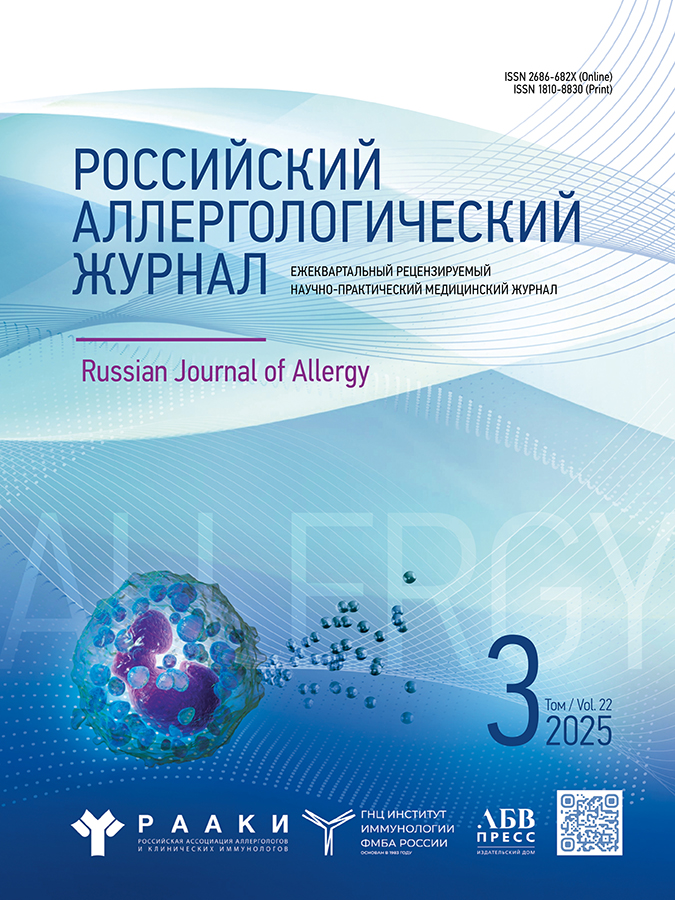Evaluation of antihistamine efficacy in combined therapy for alopecia areata
- Authors: Tereshchenko G.P.1,2, Gadzhigoroeva A.G.1,2, Zhukova O.V.1,2, Savastenko A.L.2, Potekaev N.N.1,3
-
Affiliations:
- Moscow Scientific and Practical Center of Dermatovenereology and Cosmetology
- Peoples’ Friendship University of Russia
- The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
- Issue: Vol 22, No 3 (2025)
- Pages: 277-286
- Section: Original studies
- Submitted: 24.03.2025
- Accepted: 09.05.2025
- Published: 13.05.2025
- URL: https://rusalljournal.ru/raj/article/view/17015
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA17015
- ID: 17015
Cite item
Abstract
BACKGROUND: In treating alopecia areata, antihistamines such as fexofenadine and ebastine are considered adjuvant therapy, primarily in patients with concomitant allergic diseases. The insufficient understanding of their mechanisms of action and limited evidence of their efficacy in alopecia areata highlight the need for further research.
AIM: To evaluate the efficacy of ebastine and fexofenadine combined with local therapy for the treatment of alopecia areata.
MATERIALS AND METHODS: A 12-week prospective comparative cohort study included 91 patients with alopecia areata aged ≥12 years, some with atopic conditions. Participants were randomized into two groups: the main group (n = 43) received standard therapy for alopecia areata (intradermal injection of betamethasone suspension, 0.2 mL/cm2, not exceeding 1 ml, once) combined with oral ebastine 20 mg or fexofenadine 120 mg daily for 28 days; the comparison group received betamethasone alone. Antihistamines in the main group were prescribed for allergy management. Both groups were assessed for clinical and anamnestic data, baseline and post-treatment alopecia severity via SALT scores (%), and hair regrowth rates.
RESULTS: The groups were matched in age, gender and current episode duration characterized by the active stage of alopecia areata. Baseline SALT indicated mild severity (median 22.4 %, interquartile range 13.45 in the main group; and median 19.3 %, interquartile range 15.53 % in the comparison group; p >0.05). All patients in the main group and 60.4 % of the comparison group had atopic comorbidities. At 12 weeks, the main group showed a reduction in SALT scores to a median value of 5.4 % (interquartile range 9.35 %), significantly lower than the comparison group (12.65 %, interquartile range 18.65 %; p = 0.002). Hair regrowth (%) was higher in the main group (72.04 %, interquartile range 35.73 % vs. 40.97 %, interquartile range 93.32 %; p = 0.01). Increased hair loss or negative regrowth occurred in 4.65 % of the main group vs. 31.25 % of the comparison group.
CONCLUSION: The combination of fexofenadine or ebastine with local therapy significantly reduces alopecia areata severity and promotes hair regrowth compared to only topical treatment. These findings suggest a potential role of antihistamines in stabilizing the pathological process in hair follicles, enhancing treatment efficacy. Further investigation into histamine receptors’ role in alopecia areata pathogenesis is warranted.
Keywords
Full Text
Обоснование
Гнездная алопеция (ГА) — нерубцовая форма потери волос, развивающаяся в результате аутоиммунного повреждения волосяных фолликулов на фоне генетической предрасположенности. Лечение ГА остается сложной задачей, несмотря на появление современных противовоспалительных средств таргетного иммуносупрессивного действия, таких как ингибиторы янус-киназ [1, 2]. Эти препараты оказывают плейотропное влияние на иммунный ответ, регулируя сигнальную активность многих цитокинов, ассоциированных с аутореактивностью и аллергическим воспалением. В дерматологической практике ингибиторы янус-киназ применяются при псориазе, атопическом дерматите, витилиго и ГА [3]. Для терапии тяжелых форм ГА рекомендованы такие препараты, как барицитиниб, официально одобренный при этом заболевании, и тофацитиниб, эффективность которого подтверждена в клинических исследованиях [4]. Применение ингибиторов янус-киназ демонстрирует высокую эффективность в индукции роста волос, однако имеет ограничения, связанные с возрастными рамками, рисками развития серьезных побочных эффектов, а также значительной финансовой нагрузкой на пациентов, обусловленной высокой стоимостью препаратов и необходимостью их длительного и непрерывного приема. Более того, в некоторых случаях независимо от степени тяжести ГА наблюдается резистентность к стандартной местной или системной терапии, что делает актуальным дальнейший поиск оптимальных вариантов и схем лечения, включая изучение эффективности и обоснованности применения дополнительных и альтернативных методов.
Пациенты с ГА значительно чаще испытывают бремя коморбидных заболеваний аутоиммунного и атопического спектра [5]. Возрастающий интерес к изучению ассоциации ГА с атопическими болезнями обусловлен перспективами применения определенных методов лечения, которые модулируют основные звенья аллергического воспаления, при этом демонстрируют клинически значимую эффективность в терапии ГА [6]. К таким методам относятся блокатор рецепторов интерлейкинов 4 и 13 дупилумаб и антигистаминные препараты (АГП) [7]. В нескольких исследованиях также отмечено благоприятное влияние аллерген-специфической иммунотерапии на восстановление волос при ГА у пациентов с сопутствующим атопическим дерматитом и сенсибилизацией к клещам домашней пыли [8, 9].
Системные АГП, которые используются в дерматологической и аллергологической практике, представляют собой блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов. Эти препараты широко применяются для купирования симптомов аллергии, лечения крапивницы и при ряде других состояний, патогенетически связанных с повышенным высвобождением гистамина [10]. При ГА эти препараты впервые стали назначаться для уменьшения побочных эффектов контактной иммунотерапии [11]. Однако в ряде клинических наблюдений и исследований отмечена эффективность АГП в монотерапии или в сочетании с другими методами лечения ГА [12, 13]. В контексте применения АГП при ГА практически во всех исследованиях указываются такие препараты, как фексофенадин и эбастин [7]. Положительное влияние АГП на отрастание волос при ГА связывают с подавлением иммунных реакций, опосредованных гистамином, который выбрасывается активированными тучными клетками и эозинофилами, инфильтрирующими волосяные луковицы [14, 15]. Ключевым аспектом проблемы применения АГП при ГА является отсутствие необходимой доказательной базы в отношении их эффективности, в связи с чем препараты данной группы в настоящее время рассматриваются только в качестве дополнительной терапии, в основном у пациентов, имеющих другие показания к их назначению [16].
Цель исследования — оценка эффективности применения АГП эбастина и фексофенадина при ГА в сочетании со стандартной наружной терапией у пациентов с сопутствующими атопическими заболеваниями.
Материалы и методы
Дизайн исследования
Проведено наблюдательное одноцентровое проспективное когортное сравнительное неконтролируемое исследование. Дизайн исследования представлен на рис. 1.
Рис. 1. Схема дизайна исследования согласно рекомендациям STROBE [17].
Fig. 1. Study design according to STROBE guidelines [17].
Критерии соответствия
Критерии включения: наличие установленного диагноза ГА (код МКБ-10: L63.2; L63.8), которая на период исследования имела легкую или умеренную степень тяжести согласно шкале SALT (severity of alopecia tool) — <25 % площади потери волос на голове; наличие аллергических заболеваний — аллергического ринита/риноконъюнктивита, бронхиальной астмы, атопического дерматита (код МКБ-10: J30.1; J30.2; J30.3, J30.4; J45.0; J45.8; H10.1; L20.8); возраст 12 лет и старше; добровольное участие в исследовании и подписанное информированное согласие.
Критерии невключения: пациенты с ГА, имеющие значительную площадь потери волос (SALT >25 %); пациенты с регрессирующей стадией ГА и в состоянии ремиссии; пациенты, получавшие за 3 мес до исследования и в период наблюдения системную терапию глюкокортикостероидами и/или иммунодепрессантами; возраст младше 12 лет; тяжелые соматические и психические заболевания; беременность и период лактации.
Критерии исключения: отказ от исследования на любом этапе его проведения; самостоятельное прерывание лечения; невозможность оценки конечных результатов.
Условия проведения
Исследование выполнено на базе консультативно-диагностического центра филиала «Юго-Западный» Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии.
Продолжительность исследования
Исследование проводили с марта 2024 г. по февраль 2025 г. Продолжительность периода наблюдения составляла 12 нед от начала терапии до регистрации конечного исхода.
Описание медицинского вмешательства
Всем пациентам, включенным в исследование, проводили оценку исходных параметров, включая клинико-анамнестические данные и показатель тяжести ГА. Пациенты с сопутствующими атопическими заболеваниями консультированы врачом аллергологом-иммунологом, при необходимости им проводили аллергологическое обследование согласно федеральным клиническим рекомендациям по данным нозологиям.
Для лечения ГА всем участникам проводили стандартную топическую терапию: бетаметазон в виде суспензии внутрикожно в очаги поражения из расчета 0,2 мл/см2, но не более 1 мл однократно [4]. В обеих группах пациенты с аллергическими заболеваниями получали местную терапию в зависимости от аллергической патологии и тяжести клинических проявлений. Пациенты с бронхиальной астмой получали базисную терапию и/или терапию по потребности в виде ингаляционных глюкокортикостероидов + длительно действующих β2-агонистов; при аллергическом рините/риноконъюктивите применяли топические глюкокортикостероиды, местные антигистаминные средства, препараты кромоглициевой кислоты в форме назальных спреев и глазных капель; при атопическим дерматите использовали наружные глюкокортикостероиды, местные ингибиторы кальциневрина и эмоленты.
В соответствии с протоколом исследования пациенты основной группы дополнительно к наружной терапии ГА по показаниям для лечения аллергических заболеваний получали Н1-АГП 2-го поколения — эбастин или фексофенадин в стандартных дозировках перорально согласно инструкциям к применению: эбастин — 20 мг в сутки, фексофенадин — 120 мг в сутки; продолжительность приема — 28 дней. Эбастин и фексофенадин назначали эмпирически без строгих правил и алгоритмов для выбора одного из препаратов: 25 пациентов получали эбастин, 18 — фексофенадин.
Основной исход исследования
Основным показателем исследования служила оценка динамики возобновления роста волос, определяемого изменением степени тяжести ГА от исходного уровня до значения через 12 нед после начала лечения. Исходные и конечные значения, а также процент восстановления волос сравнивали между группами, что позволило охарактеризовать эффективность и целесообразность включения АГП в комбинированные схемы терапии ГА.
Дополнительные исходы исследования
Дополнительные показатели исследования не предусматривались.
Анализ в подгруппах
На этапе скрининга в исследование были включены 97 пациентов, из которых на конечном этапе проанализированы данные 91 участника; 3 пациента исключены из-за несоответствия критериям включения, 3 выбыли из исследования в связи с неявкой на плановые визиты в процессе наблюдения (см. рис. 1). Участники разделены на 2 подгруппы в зависимости от получаемой терапии АГП: пациенты основной группы получали АГП, назначение которых было обосновано наличием симптомов аллергических заболеваний; пациенты группы сравнения АГП не получали.
Методы регистрации исходов
Для регистрации основного исхода исследования применяли шкалу оценки степени выраженности алопеции SALT, которая общепринято используется в клинических исследованиях по ГА для описания тяжести выпадения волос и мониторинга терапевтического ответа. Оценка SALT рассчитывается путем измерения процента выпадения волос в каждой из 4 областей кожи головы — правый профиль (18 % от общей площади кожи головы), левый профиль (18 %), макушка (40 %) и область затылка (24 %). Общее значение SALT достигается путем суммирования общего процента выпадения волос для каждой области скальпа, умноженного на относительную площадь этой области. Значение по шкале SALT, равное 0, соответствует отсутствию выпадения волос на голове, а SALT 100 — полному выпадению волос на голове. Возобновление роста волос определяется как отношение разницы исходного и конечного показателей потери волос к исходному уровню, выраженное в процентах [18, 19].
Этическая экспертиза
Исследование одобрено локальным комитетом по этике при Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии в рамках программы «Персонализированный подход к ведению пациентов с коморбидными иммунозависимыми заболеваниями кожи — гнездной алопецией и атопическим дерматитом» (протокол № 58 от 31.03.2022). Все участники предоставили добровольное информированное письменное согласие перед включением в исследование.
Статистический анализ
Принципы расчета размера выборки: размер выборки предварительно не рассчитывали.
Методы статистического анализа данных: статистическую обработку данных проводили с помощью пакетов программного обеспечения Statistica 10 (StatSoft, США) и Microsoft Excel 2016 (Microsoft Corporation, США). Для количественных переменных рассчитывали среднее значение (М) и ошибку среднего значения (n). При анализе применяли методы описательной статистики (среднее значение, среднеквадратичное отклонение, минимум, максимум, процентили, медиану и межквартильный размах (IQR)) для описания центральной тенденции и разброса данных. Для сравнения 2 независимых групп по непрерывным или порядковым данным применяли непараметрический тест для оценки различий между группами — критерий Манна–Уитни c избранным уровнем статистической значимости, p = 0,05. Также использовали анализ таблиц сопряженности для изучения взаимосвязи между категориальными переменными и анализ пропущенных значений для обработки недостающих данных. Для графического представления данных использовали комплексные ящичные графики с отображением плотности распределения данных.
Результаты
Объекты (участники) исследования
Среди всех участников исследования 37/91 (40,66 %) пациентов были мужского пола, 54/91 (59,34 %) — женского. Число пациентов, имеющих сопутствующие атопические заболевания, составило 72 (79,12 %). Клинико-анамнестические данные пациентов представлены в табл. 1.
Таблица 1. Исходные данные участников исследования (n = 91)
Table 1. Baseline data of the study participants (n = 91)
Характеристика Characteristic | Среднее значение Mean value | Среднеквадратичное отклонение Mean square deviation | Min | Max | Процентили Percentiles | ||
25-й 25th | 50-й (медиана) 50th (median) | 75-й 75th | |||||
Возраст Age | 17,36 | 7,17 | 12,00 | 51,00 | 14,00 | 15,00 | 19,00 |
Пол Gender | 1,59 | 0,49 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
SALT (исходное) SALT (baseline) | 21,25 | 13,14 | 2,30 | 76,80 | 12,20 | 20,40 | 26,50 |
Продолжительность текущего эпизода Duration of previous episode | 5,90 | 2,08 | 2,00 | 12,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 |
Примечание. Для отображения данных использовались методы описательной статистики Note. Descriptive statistics methods were used for data presentation. | |||||||
В межгрупповом сравнении статистически значимых различий по полу и возрасту, а также исходной тяжести ГА и продолжительности текущего эпизода не выявлено (p >0,05). Сопутствующие атопические заболевания имели все пациенты в основной группе и 29/48 (60,4 %) в группе сравнения.
Медиана исходного значения SALT в основной группе составила 22,4 % (IQR 13,45 %), в группе сравнения — 19,3 % (IQR 15,53 %), что соответствует легкой степени тяжести ГА (SALT <25 %). Медиана продолжительности текущего эпизода в обеих группах составила 6 нед: в основной IQR 3,25 нед; в группе сравнения IQR 4 нед.
Основные результаты исследования
В конце периода наблюдения медиана SALT в основной группе составила 5,4 % (IQR 9,35 %), что свидетельствует о значительном снижении показателей ГА по сравнению с исходными значениями. В группе сравнения медиана SALT осталась существенно выше — 12,65 % (IQR 18,65 %). Значительно меньший разброс данных вокруг медианы в основной группе, чем в группе сравнения, указывает на более однородный ответ на терапию, включающую АГП. Статистически значимые различия в конечных значениях индекса SALT (p = 0,002) между 2 группами могут указывать на возможность влияния АГП на исход лечения или течение ГА (рис. 2).
Рис. 2. Результаты сравнения групп по конечному показателю индекса SALT.
Fig. 2. Comparison of groups according to the outcome SALT score.
При анализе показателей восстановления волос (процент возобновления роста волос) в обеих группах отмечены разнонаправленные изменения. Медиана показателя восстановления волос в основной группе составила 72,04 % (IQR 35,73 %), тогда как в группе сравнения — 40,97 % (IQR 93,32 %); различия между группами были статистически значимы (p = 0,001). В основной группе отрицательная динамика в виде прогрессирования потери волос, несмотря на лечение, отмечалась у 2/43 (4,65 %) пациентов; в группе сравнения число пациентов с увеличением конечного показателя SALT и отрицательными значениями процента восстановления волос было значительно больше и составило 15/48 (31,25 %). Показатели (%) восстановления волос в группах представлены на рис. 3.
Рис. 3. Результаты сравнения групп по показателю восстановления волос (%).
Fig. 3. Comparison of groups by hair regrowth rate (%).
Дополнительные результаты исследования
Дополнительные результаты в исследовании не предусмотрены.
Нежелательные явления
В ходе проведения исследования нежелательные явления не зарегистрированы.
Обсуждение
Резюме основного результата исследования
В группе пациентов, которые наряду с топической терапией ГА получали фексофенадин или эбастин, наблюдались существенное снижение конечного показателя тяжести ГА и увеличение процента восстановления волос по сравнению с группой, получавшей только местное лечение. Статистически значимые различия между группами свидетельствуют о том, что применение АГП может положительно влиять на исход лечения ГА.
Обсуждение основного результата исследования
Иммунные механизмы потери волос при ГА связаны с большим числом различных аутореактивных клеток, которые в активной стадии заболевания инфильтрируют волосяные луковицы, вызывая воспаление, дистрофию волосяных фолликулов, преждевременное прерывание фазы анагена и дальнейшее подавление роста волос. Среди иммунных клеток, плотность которых значительно увеличена в очагах ГА, выделяют тучные клетки [15]. Роль тучных клеток в патофизиологии ГА до конца не определена, однако считается, что их профиль в данном случае можно расценивать как провоспалительный. В экспериментальных исследованиях в очагах ГА показаны усиленная пролиферация перибульбарных мастоцитов и их активное взаимодействие с CD8+-Т-лимфоцитами, которые оказывают цитотоксическое действие на клетки волосяных фолликулов. Кроме того, тучные клетки способствуют экспрессии молекул клеточной адгезии (ICAM-1) на эпителиальных клетках, активации молекул главного комплекса гистосовместимости 1-го класса (MHC I) и подавлению экспрессии молекул, связанных с обеспечением иммунной толерантности волосяных фолликулов, т. е. участвуют в основных механизмах патогенеза ГА [14, 20]. Основным медиатором, ассоциированным с тучными клетками, является гистамин, который участвует во многих физиологических и патологических процессах посредством активации различных типов гистаминовых рецепторов. Взаимодействие гистамина с Н1-рецепторами является ключевым механизмом патохимических и патофизиологических процессов при аллергическом воспалении, тогда как в реализации иммуномодулирующего эффекта гистамина существенная роль отводится рецепторам Н4-типа [21, 22]. Выявлено, что именно H4-гистаминовые рецепторы в основном экспрессируются на кератиноцитах и многих других иммунных клетках в коже при атопическом дерматите, что объясняет недостаточную эффективность антагонистов H1-рецепторов для контроля зуда и хронического воспаления при данном заболевании [22, 23]. В небольшом исследовании показано, что при культивировании мононуклеаров периферической крови пациентов с ГА в присутствии гистамина наблюдалась повышенная экспрессия цитокинов Th1- и Th2-профилей, особенно у пациентов с сопутствующими атопическими заболеваниями, при этом блокада Н3-/Н4-рецепторов отменяла цитокинстимулирующий эффект гистамина [24]. Точных данных о том, какие типы гистаминовых рецепторов участвуют в иммунных реакциях при ГА, не представлено. С учетом отсутствия зарегистрированных лекарственных средств, блокирующих H4-рецепторы, изучение роли АГП при ГА ограничивается применением H1-антагонистов.
Фексофенадин и эбастин являются основными АГП, применение которых ассоциируется с возобновлением роста волос при ГА [12, 13, 25]. Это обусловлено определенными особенностями фармакокинетики данных препаратов дополнительно к их основному эффекту антагонизма H1-гистаминовых рецепторов. Установлено, что эбастин способен ингибировать миграцию T-лимфоцитов и продукцию провоспалительных медиаторов, особенно Th2-профиля [26, 27]. При ГА, согласно результатам экспериментальных исследований, на фоне применения эбастина отмечались снижение уровня воспалительного цитокина интерлейкина 12 и нейромедиатора субстанции Р в сыворотке, а также уменьшение лимфоцитарной инфильтрации вокруг волосяного фолликула [28]. Более того, под влиянием эбастина увеличивалась пролиферация клеток дермального сосочка, способствуя восстановлению волос [29]. Положительный эффект от фексофенадина связывают с его возможностью снижать продукцию интерферона γ Т-лимфоцитами и экспрессию молекул клеточной адгезии на эпителиальных клетках волосяных фолликулов [13, 25]. В нашем исследовании мы также применяли фексофенадин и эбастин у пациентов с ГА. Вызывает интерес вопрос, только ли эти препараты могут положительно влиять на восстановление волос при ГА. Результатов применения других АГП при ГА практически не представлено, однако исследования, касающиеся расширения потенциального спектра препаратов этой группы, представляются целесообразными с учетом того, что некоторые АГП, например цетиризин и левоцетиризин, разрешены к применению у детей младшего детского возраста.
Таким образом, существующие сведения об эффективности АГП при ГА пока позволяют использовать эти препараты только в качестве адъювантной терапии. При этом в некоторых публикациях, посвященных применению различных вариантов лечения ГА, АГП указываются как одни из наиболее популярных методов среди альтернативных подходов [9, 14]. Результаты нашего исследования вносят дополнительный вклад в обоснование возможности применения АГП при ГА. С учетом сложного и многокомпонентного патогенеза ГА воздействие исключительно на гистамин-опосредованные иммунные механизмы вряд ли будет оказывать полноценную терапевтическую эффективность. Это не позволяет считать АГП перспективными кандидатами для монотерапии ГА. Тем не менее в сочетании с другими методами лечения, особенно топическими препаратами, недостаточно подавляющими аутореактивые процессы вокруг волосяных фолликулов, АГП могут служить как вспомогательные средства для контроля иммунного воспаления. Следовательно, АГП можно рассматривать в качестве дополнения к основному лечению в активной стадии ГА. К тому же применение этих препаратов является достаточно безопасным вариантом сопутствующей терапии, поскольку H1-блокаторы гистаминовых рецепторов 2-го поколения отличаются высоким профилем безопасности и хорошей переносимостью [10].
В рамках изучения возможности использования АГП для лечения ГА также необходимы разъяснения, касающиеся сопутствующего атопического статуса пациентов. В исследованиях, где показаны высокая плотность активированных тучных клеток в перибульбарном инфильтрате и результаты эффективности АГП при ГА, не отмечено различий между пациентами с аллергическими заболеваниями и без них [15]. С другой стороны, наличие атопического фона предполагает определенные особенности иммунного профиля ГА [30]. В нашем исследовании все пациенты, которые получали АГП, имели атопические заболевания. Для патогенетического обоснования применения АГП при ГА, а также понимания, влияет ли атопический статус на их эффективность, требуются исследования с участием пациентов без атопии. Проведение таких исследований затруднено в связи с тем, что АГП не входят в рекомендации по лечению ГА.
Ограничения исследования
Исследование имеет ряд ограничений. Прежде всего оно носит ретроспективный одноцентровой характер с участием сравнительно небольшой группы пациентов. Период наблюдения составил 12 нед, что соответствует минимальному рекомендованному сроку мониторинга эффективности терапии ГА. Для оценки долгосрочных эффектов лечения ГА АГП необходимы дополнительные крупные сравнительные исследования с более длительным периодом наблюдения. Кроме того, мы не разделяли пациентов, принимавших эбастин и фексофенадин, что не позволяет определить различия в действии этих препаратов при ГА.
Заключение
В ранее проведенных исследованиях указана возможная взаимосвязь между активностью перибульбарных тучных клеток, высвобождением гистамина и развитием ГА. Ключевыми нерешенными аспектами остаются определение точных механизмов воздействия гистамина на воспалительные процессы в области волосяных фолликулов, роль различных гистаминовых рецепторов, а также влияние атопического фона в иммунных реакциях при ГА. АГП, такие как фексофенадин и эбастин, рассматриваются как потенциально эффективные средства дополнительной терапии, однако убедительных доказательств целесообразности их использования в лечении ГА недостаточно.
В настоящем исследовании продемонстрировано, что применение эбастина и фексофенадина в составе комбинированной терапии в активную стадию ГА приводит к значительному снижению тяжести заболевания и увеличению процента восстановления роста волос по сравнению с группой, получавшей только местное лечение. Это указывает на возможное положительное влияние АГП на стабилизацию и уменьшение воспалительного процесса в области волосяных фолликулов. Полученные результаты подтверждают целесообразность использования АГП в качестве адъювантной терапии при ГА, особенно у пациентов с сопутствующими атопическими заболеваниями. Результаты исследования имеют важное клиническое значение, так как предлагают относительно безопасный и доступный метод повышения эффективности терапии ГА. В контексте изучения терапевтической значимости АГП при ГА остаются открытыми вопросы об их долгосрочном влиянии на восстановление волос, возможности применения других представителей этой группы препаратов, а также дифференцированной эффективности у пациентов с атопическим и неатопическим фоном. Научная ценность результатов исследований в этой области заключается в расширении понимания роли гистамина и его рецепторов в патогенезе ГА, что может способствовать разработке новых терапевтических стратегий и персонализированного подхода при лечении данного заболевания.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ / ADDITIONAL INFORMATION
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования и подготовке публикации.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с проведенным исследованием и публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. Г.П. Терещенко — сбор и анализ источников литературы, курация и лечение пациентов, анализ результатов исследования, написание текста статьи; А.Г. Гаджигороева — обзор литературы, курация и лечение пациентов, статистическая обработка полученных результатов, написание и редактирование текста статьи; О.В. Жукова — разработка дизайна исследования, курация пациентов, редактирование текста статьи; А.Л. Савастенко — интерпретация полученных данных, написание и редактирование текста статьи; Н.Н. Потекаев — разработка дизайна исследования, анализ результатов исследования, написание и редактирование текста статьи, одобрение окончательной версии статьи. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией).
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors’ contribution. G.P. Tereshchenko — literature review, patient management, analysis of the research results, writing the article; A.G. Gadzhigoroeva — literature review, patient management, statistical analysis, writing and editing the article; O.V. Zhukova — research design, patient management, editing the article; A.L. Savastenko — interpretation of the obtained data, writing and editing the article; N.N. Potekaev — research design, analysis of the research results, writing and editing the article, approval of the final version of the article. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work.
About the authors
Galina P. Tereshchenko
Moscow Scientific and Practical Center of Dermatovenereology and Cosmetology; Peoples’ Friendship University of Russia
Author for correspondence.
Email: gala_ter@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9643-0440
SPIN-code: 1163-5456
MD, Cand. Sci. (Medicine), Associate Professor
Россия, Moscow; MoscowAida G. Gadzhigoroeva
Moscow Scientific and Practical Center of Dermatovenereology and Cosmetology; Peoples’ Friendship University of Russia
Email: aida2010@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-0489-0576
SPIN-code: 6021-0135
MD, Dr. Sci. (Medicine)
Россия, Moscow; MoscowOlga V. Zhukova
Moscow Scientific and Practical Center of Dermatovenereology and Cosmetology; Peoples’ Friendship University of Russia
Email: klinderma@inbox.ru
ORCID iD: 0000-0001-5723-6573
SPIN-code: 8584-7564
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Россия, Moscow; MoscowAleksey L. Savastenko
Peoples’ Friendship University of Russia
Email: savasta@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-8604-3612
SPIN-code: 5327-6190
Россия, Moscow
Nikolay N. Potekaev
Moscow Scientific and Practical Center of Dermatovenereology and Cosmetology; The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
Email: klinderma@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-9578-5490
SPIN-code: 8862-5688
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Россия, Moscow; MoscowReferences
- Rudnicka L, Trzeciak M, Alpsoy E, et al. Disease burden, clinical management and unmet treatment need of patients with moderate to severe alopecia areata; consensus statements, insights, and practices from CERTAAE (Central/Eastern EU, Russia, Türkiye AA experts) Delphi panel. Front Med (Lausanne). 2024;11:1353354. doi: 10.3389/fmed.2024.1353354 EDN: OFPUKS
- Fridman M, Ray M, Gandhi K, et al. Treatment patterns and treatment satisfaction among adults with alopecia areata in the United States. Adv Ther. 2022;39(12):5504–5513. doi: 10.1007/s12325-022-02338-4 EDN: CQKEIG
- Shah RJ, Banerjee S, Raychaudhuri S, Raychaudhuri SP. JAK-STAT inhibitors in immune mediated diseases: an overview. Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2023;89(5):691–699. doi: 10.25259/IJDVL_1152_2022 EDN: PKCAKA
- Гнездная алопеция. Клинические рекомендации. Российское общество дерматовенерологов и косметологов. 2024. Режим доступа: https://cr.minzdrav.gov.ru/preview-cr/196_2 Дата обращения: 13.03.2025.
- Holmes S, Harries M, Macbeth AE, et al. Alopecia areata and risk of atopic and autoimmune conditions: population-based cohort study. Clin Exp Dermatol. 2023;48(4):325–331. doi: 10.1093/ced/llac104 EDN: ZVNAZG
- Zhang X, McElwee KJ. Allergy promotes alopecia areata in a subset of patients. Exp Dermatol. 2020;29(3):239–242. doi: 10.1111/exd.14027 EDN: ATDFOE
- Pham C, Sung C, Juhasz M, et al. The role of antihistamines and dupilumab in the management of alopecia areata: a systematic review. J Drugs Dermatol. 2022;21(10):1070–1083. doi: 10.36849/jdd.6553 EDN: QSVMJR
- Kwon IJ, Park JW, Kim SM, et al. Allergen-specific immunotherapy improves alopecia totalis in a severe atopic dermatitis patient. J Dermatol. 2023;50(10):1353–1356. doi: 10.1111/1346-8138.16841 EDN: YJDFAO
- Zeng Z, Li S, Ye Y, et al. Allergen desensitization reduces the severity of relapsed alopecia areata in dust-mite allergic patients. Exp Dermatol. 2023;32(7):1108–1119. doi: 10.1111/exd.14819 EDN: FWWUMQ
- Hsieh CY, Tsai TF. Use of H-1 antihistamine in dermatology: more than itch and urticaria control: a systematic review. Dermatol Ther (Heidelb). 2021;11(3):719–732. doi: 10.1007/s13555-021-00524-w EDN: UWFFDK
- Atanaskova Mesinkovska N. Emerging unconventional therapies for alopecia areata. J Investig Dermatol Symp Proc. 2018;19(1):S32–S33. doi: 10.1016/j.jisp.2017.10.012 EDN: YEOELZ
- Lee YB, Lee WS. Efficacy of antihistamines in combination with topical corticosteroid and superficial cryotherapy for treatment of alopecia areata: a retrospective cohort study. J Am Acad Dermatol. 2021;84(4):1152–1154. doi: 10.1016/j.jaad.2020.06.1026 EDN: IRNNOR
- Nonomura Y, Otsuka A, Miyachi Y, Kabashima K. Case of intractable ophiasis type of alopecia areata presumably improved by fexofenadine. J Dermatol. 2012;39(12):1063–1064. doi: 10.1111/j.1346-8138.2012.01571.x
- Nasiri S, Salehi A, Rakhshan A. Infiltration of mast cells in scalp biopsies of patients with alopcia areata or androgenic alopecia versus healthy individuals: a case control study. Galen Med J. 2020;9:e1962. doi: 10.31661/gmj.v9i0.1962 EDN: DMJPJN
- Genedy RM, Badran FK, Tayae EM, Sabra HN. Lesson to learn from cellular infiltrate in scalp biopsy of alopecia areata. Am J Dermatopathol. 2021;43(12):e158–e164. doi: 10.1097/DAD.0000000000001929 EDN: IFHZVL
- Campos-Alberto E, Hirose T, Napatalung L, Ohyama M. Prevalence, comorbidities, and treatment patterns of Japanese patients with alopecia areata: a descriptive study using Japan medical data center claims database. J Dermatol. 2023;50(1):37–45. doi: 10.1111/1346-8138.16615 EDN: BZDUWY
- Sereda AP, Andrianova MA. Study design guidelines. Traumatology and Orthopedics of Russia. 2019;25(3):165–184. (In Russ.) doi: 10.21823/2311-2905-2019-25-3-165-184 EDN: NJCXSG
- Olsen EA, Roberts J, Sperling L, et al. Objective outcome measures: collecting meaningful data on alopecia areata. J Am Acad Dermatol. 2018;79(3):470–478.e3. doi: 10.1016/j.jaad.2017.10.048
- Olsen EA, Hordinsky MK, Price VH, et al. Alopecia areata investigational assessment guidelines — Part II. National alopecia areata foundation. J Am Acad Dermatol. 2004;51(3):440–447. doi: 10.1016/j.jaad.2003.09.032
- Bertolini M, Zilio F, Rossi A, et al. Abnormal interactions between perifollicular mast cells and CD8+ T-cells may contribute to the pathogenesis of alopecia areata. PLoS One. 2014;9(5):e94260. doi: 10.1371/journal.pone.0094260 EDN: UGGACF
- Mehta P, Miszta P, Rzodkiewicz P, et al. Enigmatic histamine receptor H4 for potential treatment of multiple inflammatory, autoimmune, and related diseases. Life (Basel). 2020;10(4):50. doi: 10.3390/life10040050 EDN: OMOCFT
- Glatzer F, Gschwandtner M, Ehling S, et al. Histamine induces proliferation in keratinocytes from patients with atopic dermatitis through the histamine 4 receptor. J Allergy Clin Immunol. 2013;132(6):1358–1367. doi: 10.1016/j.jaci.2013.06.023
- Schaper-Gerhardt K, Rossbach K, Nikolouli E, et al. The role of the histamine H4 receptor in atopic dermatitis and psoriasis. Br J Pharmacol. 2020;177(3):490–502. doi: 10.1111/bph.14550
- Tereshenko G, Potekaev N, Gadzhigoroeva A, et al. The role of histamine and histamine H3/4 receptors in cytokine synthesis in alopecia areata associated with atopy. J Allergy Clin Immunol. 2024;153(2):AB187. doi: 10.1016/j.jaci.2023.11.605
- Soltanahmadi S, Akhyani M. Effect of fexofenadine as an adjunct to DPCP in non-atopic patients with alopecia areata: a randomized clinical trial. J Clin Exp Dermatol Res. 2012;3(155):2. doi: 10.4172/2155-9554.1000155
- Nori M, Iwata S, Munakata Y, et al. Ebastine inhibits T cell migration, production of Th2-type cytokines and proinflammatory cytokines. Clin Exp Allergy. 2003;33(11):1544–1554. doi: 10.1046/j.1365-2222.2003.01701.x EDN: EUDUTV
- Gushchin IS, Danilicheva IV. Ebastine. A reasonable choice. Russian Journal of Allergy. 2017;14(4-5):89–97. (In Russ.) doi: 10.36691/RJA300 EDN: ZXHMKR
- Ohyama M, Shimizu A, Tanaka K, Amagai M. Experimental evaluation of ebastine, a second-generation anti-histamine, as a supportive medication for alopecia areata. J Dermatol Sci. 2010;58(2):154–157. doi: 10.1016/j.jdermsci.2010.03.009
- Tsai FM, Li CH, Wang LK, et al. Extracellular signal-regulated kinase mediates ebastine-induced human follicle dermal papilla cell proliferation. Biomed Res Int. 2019;2019:6360503. doi: 10.1155/2019/6360503
- Kageyama R, Ito T, Hanai S, et al. Immunological properties of atopic dermatitis-associated alopecia areata. Int J Mol Sci. 2021;22(5):2618. doi: 10.3390/ijms22052618 EDN: ODQUXQ
Supplementary files