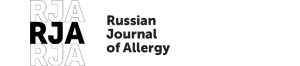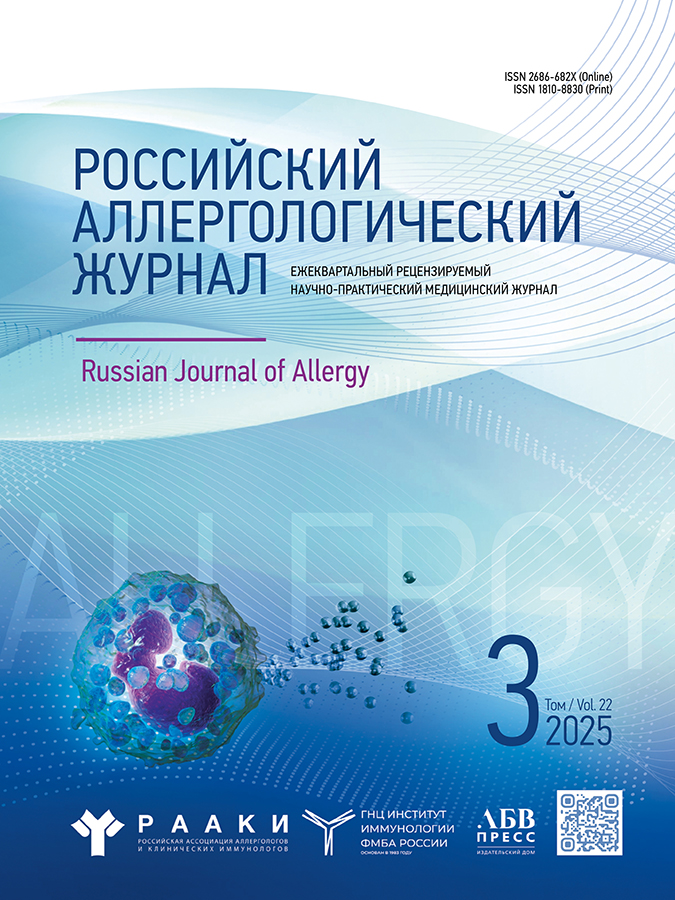Causes and clinical symptoms of anaphylactic reactions in children: implementation into clinical practice of the first Pediatric Moscow Anaphylaxis Registry in the Russian Federation
- Authors: Pampura A.N.1,2, Esakova N.V.2, Zimin S.B.1, Кovtun E.I.1, Kara Y.O.1, Busova E.S.1, Bzhekshieva Z.S.1, Leonteva M.E.1, Vitkovskaya I.P.1, Gorev V.V.1
-
Affiliations:
- Morozov Children's Municipal Clinical Hospital
- Veltischev Research and Clinical Institute for Pediatrics and Pediatric Surgery of the Pirogov Russian National Research Medical University of the Russian Ministry of Health
- Issue: Vol 21, No 2 (2024)
- Pages: 203-215
- Section: Original studies
- Submitted: 18.12.2023
- Accepted: 08.04.2024
- Published: 16.06.2024
- URL: https://rusalljournal.ru/raj/article/view/16907
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA16907
- ID: 16907
Cite item
Abstract
BACKGROUND: For a long time in the Russian Federation, there was a problem of the lack of registry of anaphylaxis, as the most important tool for recording and monitoring this group of patients. Since 2022, the first Pediatric Moscow Anaphylaxis Registry has started working at the Morozov Children's Hospital.
AIM: Objectification and analysis of data from the Pediatric Moscow Anaphylaxis Registry to determine the frequency, causes and characteristics of anaphylaxis clinical symptoms among children of the Moscow region.
MATERIALS AND METHODS: The statistical analysis of the questionnaire data of the patient-oriented questionnaire of 69 children aged 0 to 18 years, who were prospectively included in the Register during emergency hospitalization due to anaphylaxis, was carried out.
RESULTS: The incidence of anaphylaxis among children hospitalized with acute allergic reactions from May 2022 to September 2023 was 5.8%. A higher percentage of anaphylaxis episodes (38%) were observed among adolescents aged 13–18 years, three patients developed anaphylaxis in the first year of life (minimum age 1 month). Boys (70%) prevailed among patients with anaphylaxis under the age of 13, and girls (56%) prevailed among adolescents aged 13–18 (p=0.042). In 75%, anaphylaxis developed at home. For patients of all age groups, food anaphylaxis was dominant (75–91%). Tree nuts were the most common suspected trigger of food anaphylaxis ― 35% of reactions, and confectionery products in 17% of cases. With anaphylaxis, 56% of children experienced symptoms from four or more organ systems, the most common symptoms were from the skin/mucous (94%), respiratory organs (78%) and laryngeal symptoms (64%). At the stage of emergency medical care, the frequency of diagnosis of anaphylaxis was 22%, and the administration of epinephrine was 54%. The frequency of epinephrine use among children under 3 years of age was lower compared to adolescents aged 13–18 years (25% vs 76%, p=0.003)
CONCLUSION: The data from the work of the first Pediatric Moscow Anaphylaxis Registry in the Russian Federation demonstrate a high incidence of anaphylaxis among patients with acute allergic reactions. More than 1/3 of anaphylactic reactions occur in adolescents aged 13–18 years, while anaphylaxis occurs even in the first month of life. Anaphylaxis most often develops at home, which dictates the special need for careful training of patients in the rules of elimination of the trigger. The dominant cause of anaphylaxis in children in the Russian Federation, regardless of age, are food allergens, tree nuts induce anaphylaxis in more than 1/3 of cases. The frequency of diagnosis of anaphylaxis at the stage of emergency medical care does not exceed 22%, administration of epinephrine ― 54%, minimal use of epinephrine is observed among children under 3 years of age.
Keywords
Full Text
ОБОСНОВАНИЕ
Анафилаксия представляет собой системную реакцию гиперчувствительности, характеризуемую быстрым развитием потенциально жизнеугрожающих симптомов, которые могут привести к смерти [1–3]. Установление диагноза анафилаксии у детей представляется достаточно сложной проблемой, что связано с рядом аспектов: первый в жизни эпизод реакции, некоторые особенности клинических проявлений анафилаксия в раннем возрасте, сложности интерпретации симптомов и непредсказуемый сценарий их развития, анафилаксии при первом употреблении продукта и др. К сожалению, в Российской Федерации, как и ряде других стран, существует проблема гиподиагностики анафилаксии [4, 5]. По данным проведённого нами международного опроса врачей (2021 г.), включая российских специалистов, по диагностике и лечению анафилаксии у детей, гиподиагностика заболевания достигает 50%, но даже при правильной постановке диагноза в половине случаев пациентам не назначается эпинефрин [6].
В Москве, как и в целом по России, несмотря на очевидную актуальность рассматриваемой жизнеугрожающей нозологии, нет достоверных эпидемиологических данных в отношении заболеваемости, её частоты и летальности. Проблема долгое время была напрямую связана с отсутствием как в регионах страны, так и на федеральном уровне регистра пациентов с тяжёлыми острыми аллергическими реакциями как важнейшего инструмента учёта и объективизации данной группы больных и их всесторонней поддержки.
Опыт регистров, особенно проспективных, существующих в ряде развитых стран [7–9], позволяет оптимизировать оказание помощи больным анафилаксией, объективизирует эпидемиологические данные, способствует повышению уровня знаний и навыков врачей, обосновывает стратегию профилактики. Более того, анализ клинико-лабораторных данных регистра в совокупности с результатами инновационных исследований может быть полезным в разработке новых методов терапии анафилаксии. В этой связи в 2022 году на базе Морозовской детской городской клинической больницы (ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ») при поддержке гранта Правительства Москвы был разработан и реализуется научно-практический проект «Эпидемиология и триггеры тяжёлых острых аллергических реакций в разработке биомаркеров развития жизнеугрожающих состояний и системы снижения рисков их развития». В рамках данного проекта разработан и запущен в мае 2022 года Педиатрический Московский регистр анафилаксии, который позволил не только интегрировать в практику цифровой опросник, систематизирующий данные в отношении эпизодов анафилаксии, но и оптимизировать диспансерное наблюдение данной группы пациентов и прицельно объективно анализировать эпидемиологию, триггеры и практически значимые клинико-иммунологические аспекты анафилаксии у детей Московского региона.
Цель исследования — объективизация и анализ данных Педиатрического Московского регистра анафилаксии для определения частоты, спектра триггеров и особенностей клинических симптомов анафилаксии с учётом возрастных и гендерных факторов у детей Московского региона. Кроме того, важной задачей исследования является оценка реальной клинической практики в отношении частоты постановки диагноза анафилаксии у детей и использования эпинефрина в её лечении на догоспитальном этапе оказания скорой медицинской помощи.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Научно-исследовательская работа представляет собой проспективную оценку и анализ данных пациенториентированного опросника детей в возрасте от 0 до 18 лет, которые в период с мая 2022 по сентябрь 2023 года экстренно госпитализировались в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» в связи с острым эпизодом анафилаксии и были включены в Педиатрический Московский регистр анафилаксии.
Критерии соответствия
В регистр анафилаксии включаются пациенты из числа детей, поступающих экстренно в стационар ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» в связи с эпизодом анафилаксии. Диагноз анафилаксии выставляется врачом аллергологом-иммунологом непосредственно при экстренной госпитализации на основании общепринятых диагностических критериев, тяжесть анафилаксии определяется по стандартным критериям тяжести [1–3]. Диагноз анафилаксии подтверждается независимым мнением двух экспертов в области анафилаксии.
Основной исход исследования
Для систематизации данных при включении пациента в регистр анафилаксии врач заполняет онлайн пациенториентированную анкету-опросник, которая содержит следующие основные разделы: паспортные данные; основной диагноз; общий и аллергологический анамнез, включающий характеристику эпизодов анафилаксии (место развития реакции, триггер, кофакторы, симптомы, время и тяжесть их развития, проводимое лечение [самопомощь, скорая медицинская помощь], время купирования симптомов, диагноз бригады скорой медицинской помощи).
В настоящем исследовании прицельно были подвергнуты статистическому анализу анамнестические и клинические данные пациентов, включаемых в регистр проспективно при экстренной госпитализации в связи с анафилаксией. Дети с сомнительным диагнозом анафилаксии в настоящий анализ не включались.
Этическая экспертиза
При включении пациентов в регистр анафилаксии информированное согласие было получено от всех пациентов старше 15 лет и от родителей/опекунов пациентов в возрасте до 15 лет. Научно-исследовательская работа одобрена локальным комитетом по этике при ОСП «Научно-исследовательский клинический институт педиатрии и детской хирургии имени академика Ю.Е. Вельтищева» ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России (протокол № 6/21).
Статистический анализ
Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica for Windows 10.0 (Statsoft Inc., США). Количественные данные представлены в виде медианы, верхнего и нижнего квартиля (Me [Q1; Q3]). Распределение качественных признаков описывалось с помощью абсолютных и относительных частот. Статистическую значимость различий при сравнении несвязанных групп по доле (частоте признака) вычисляли с помощью двустороннего точного критерия Фишера. Критической величиной уровня статистической значимости различий считали р=0,05.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Объекты (участники) исследования
За период с мая 2022 по сентябрь 2023 года в цифровом Педиатрическом Московском регистре анафилаксии зарегистрировано 69 детей, из них 28 (41%) девочек и 41 (59%) мальчик, поступивших экстренно в стационар ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» в связи с эпизодом анафилаксии. Медиана возраста пациентов составила 11,7 года (табл. 1).
Гендерные и возрастные характеристики пациентов
В связи с анафилаксией госпитализированы 38% (n=26) пациентов в возрасте от 13 до 18 лет, 62% (n=43) — от 0–13 лет, при этом доля детей по возрастам варьировала от 16 до 23%. Среди пациентов в возрасте до 13 лет (n=43) превалировали мальчики (n=30, 70%), среди подростков 13–18 лет, напротив, доминировали девочки (n=15, 56%); получены статистические значимые различия между возрастными группами (p=0,042) (см. табл. 1; рис. 1).
Таблица 1. Возраст и пол пациентов, госпитализированных в связи с анафилаксией Table 1. Age and gender of patients hospitalized with anaphylaxis | |||
Группы | Число детей, n (%) | Пол, мальчики/девочки | Средний возраст, лет Me [Q1; Q3] |
Общая группа | 69 | 41/28 | |
Группы по возрасту, лет | |||
· от 0 до 3 | 16 (23) | 13/3 | |
· от 3 до 7 | 11 (16) | 7/4 | |
· от 7 до 13 | 16 (23) | 10/6 | |
· от 13 до 18 | 26 (38) | 11/15 | |
Рис. 1. Распределение пациентов, госпитализированных в связи с анафилаксией, по возрасту и полу (n=69).
Fig. 1. Distribution of patients hospitalized with anaphylaxis, depending on age and gender (n=69).
У 3 пациентов анафилаксия развилась на первом году жизни, минимальный возраст ребёнка с анафилаксией составил 1 месяц.
Основные результаты исследования
Частота анафилаксии
Всего за период с мая 2022 по сентябрь 2023 года в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» экстренно поступило 1189 пациентов с острыми аллергическими реакциями (код диагнозов по Международной классификации болезней 10-го пересмотра: L50.0, L50.1, L50.2, L50.3, L50.8, L50.9, T78.0, T78.2, T78.3, T78.4), при этом на долю анафилактических реакций пришлось 5,8% (рис. 2).
Рис. 2. Частота анафилаксии среди экстренно госпитализированных пациентов с острыми аллергическими реакциями (n=1189).
Fig. 2. Frequency of anaphylaxis among emergency hospitalized patients with acute allergic reactions (n=1189).
Место развития реакций
У 78% (n=54) пациентов анафилаксия развилась впервые, у 22% (n=15) настоящий эпизод анафилактической реакции был повторным. В 75% (n=52) случаев эпизод анафилаксии развивался у ребёнка в домашних условиях, в 10% — на улице; частота анафилаксии в школе или местах общественного питания достигала 6%, в гостях — 3%.
Предполагаемые триггеры анафилаксии
Под предполагаемым триггером анафилаксии первично понимали фактор, с которым пациенты или их родители связывали развитие настоящего эпизода анафилаксии, что учитывалось при проспективном включении пациента в регистр и указывалось при заполнении врачом анкеты-опросника. Данный подход обусловлен пациенториентированностью регистра и его проспективным характером, в частности, невозможностью в течение кратковременной госпитализации однозначно установить причинно-значимый агент.
Наиболее значимыми предполагаемыми триггерами анафилаксии являлись различные пищевые аллергены — 84% (n=58) реакций, в 4,3% (n=3) случаев — лекарственные препараты (кромоглициевая кислота, интерферон альфа-2, комбинированный спазмоанальгетик), в 1,4% (n=1) — ужаление перепончатокрылым насекомым (оса); в 6% (n=4) случаев чёткой связи анафилактической реакции с каким-либо триггером не выявлялось (табл. 2). Кроме того, у 3 пациентов развитие анафилаксии имело место после вероятного контакта с непищевым триггером — травой, жидким мылом на основе череды, новым постельным бельём.
Таблица 2. Предполагаемые триггеры анафилаксии в общей группе пациентов и в группах детей различного возраста Table 2. The suspected triggers of anaphylaxis in the general group of patients and in groups of children of different ages | |||||
Триггер анафилаксии | Группы, возраст, лет | ||||
Общая n=69 (%) | 0–3 n=16 (%) | 3–7 n=11 (%) | 7–13 n=16 (%) | 13–18 n=26 (%) | |
Пищевые аллергены | 58 (84) | 14 (88) | 10 (91) | 12 (75) | 22 (84) |
Лекарственные препараты | 3 (4,3) | 1 (6) | - | 1 (6) | 1 (4) |
Ужаление насекомым | 1 (1,4) | - | 1 (9) | - | - |
Контакт с непищевыми триггерами | 3 (4,3) | 1 (6) | - | 1 (6) | 1 (4) |
Причина неизвестна | 4 (6) | - | - | 2(13) | 2 (8) |
Среди пациентов всех возрастных групп доминировала пищевая анафилаксия, частота которой варьировала от 75 до 91%. Инсектная анафилаксия встречалась только в группе детей от 3 до 7 лет (9%); анафилаксия без установленного триггера имела место у пациентов в возрасте 7 лет и старше, частота её составляла 8–13%. Анафилаксия к лекарственным препаратам и при контакте с непищевыми триггерами встречалась в возрастных группах от 0 до 3 лет и у пациентов от 7 лет, доля таких реакций составляла 4–6%.
Предполагаемые триггеры пищевой анафилаксии
Предполагаемые пищевые триггеры, с которыми пациенты или их родители связывали развитие симптомов анафилаксии, представлены в табл. 3. Среди всех случаев пищевой анафилаксии системная реакция у 1 ребёнка развилась при ингаляционном поступлении аллергена (кулинарная обработка рыбы), остальные реакции возникали при пероральном употреблении продукта. Наиболее частым триггером пищевой анафилаксии выступали орехи деревьев (фисташки, кедр, миндаль, фундук, кешью, грецкий орех) — 35% реакций, в 17% случаев — кондитерские изделия (торты, конфеты, пирожное и др.), имеющие поликомпонентный состав и, таким образом, крайне высокий риск наличия скрытых аллергенов (следовые количества орехов, арахиса, кунжута, молока, куриного яйца, пшеницы и др.); в 12 и 7% случаев причиной анафилаксии являлись коровье молоко и куриное яйцо соответственно (см. табл. 3). Анафилаксия к рыбе/морепродуктам и овощам (капуста, морковь) не превышала 5%, к арахису и фруктам (киви, голубика) — 4%; единичные анафилактические реакции имели место после употребления говядины (бульон), мёда и семян подсолнечника. Кроме того, у 3 пациентов анафилактические реакции, со слов пациентов/родителей, развились после употребления газированных напитков.
Таблица 3. Предполагаемые триггеры пищевой анафилаксии в общей группе детей и группах пациентов разного возраста Table 3. Suspected triggers of food anaphylaxis in the general group of children and for groups of patients of different ages | |||||
Триггеры пищевой анафилаксии | Группы, возраст, лет | ||||
Общая n=58 (%) | 0–3 n=14 (%) | 3–7 n=10 (%) | 7–13 n=12 (%) | 13–18 n=22 (%) | |
Орехи деревьев | 20 (35) | 2 (15) | 6 (60) | 3 (25) | 9 (40) |
Кондитерское изделие | 10 (17) | 5 (36) | - | 1 (8) | 4 (17) |
Коровье молоко | 7 (12) | 3 (21) | 1 (10) | 2 (18) | 1 (5) |
Куриное яйцо | 4 (7) | 3 (21) | 1 (10) | - | - |
Рыба и/или морепродукты | 3 (5) | - | 1 (10) | 1 (8) | 1 (5) |
Овощи | 3 (5) | 1 (7) | - | - | 2 (8) |
Газированные напитки | 3 (5) | - | - | 3 (25) | - |
Арахис | 2 (4) | - | - | 1 (8) | 1 (5) |
Фрукты/ягоды | 2 (4) | - | 1 (10) | - | 1 (5) |
Пшеница | 1 (2) | - | - | - | 1 (5) |
Говядина | 1 (2) | - | - | - | 1 (5) |
Мёд | 1 (2) | - | - | 1 (8) | - |
Семена подсолнечника | 1 (2) | - | - | - | 1 (5) |
У пациентов в возрасте до 3 лет наиболее часто анафилаксия развивалась после употребления кондитерских изделий (36%), следующими по значимости триггерами выступали молоко и куриное яйцо — 21% реакций, частота которых с увеличением возраста имела стойкую тенденцию к снижению. В группах детей 3–18 лет доминирующей причиной анафилаксии являлись орехи деревьев: максимальная частота выявлена в группе пациентов от 3 до 7 лет, где она достигала 60% и была достоверно выше относительно детей более младшего возраста (15%; p=0,03). Кроме того, в группе пациентов 7–13 лет значимой причиной анафилаксии, со слов пациентов/родителей, выступали газированные напитки: частота таких реакций составила 25%.
Клиническая картина анафилаксии
При развитии анафилаксии у 13% (n=9) детей отмечались симптомы со стороны двух систем органов, у 31% (n=21) в анафилактической реакции были задействованы три системы органов, 56% (n=39) детей испытывали симптомы со стороны четырёх и более систем (рис. 3). У всех детей в возрасте до 3 лет анафилаксия характеризовалась вовлечением не менее трёх систем органов.
Рис. 3. Частота вовлечения различного количества систем органов при развитии анафилаксии в общей группе детей и группах пациентов разного возраста (n=69).
Fig. 3. The frequency of involvement of a different number of organ systems in anaphylaxis in the general group of children and in groups of patients of different ages (n=69).
Клиническая картина анафилаксии в общей группе детей наиболее часто манифестировала симптомами поражения со стороны кожи/слизистых (94%) и органов дыхательной системы (78%). Симптомы вовлечения гортани, которые в новых критериях Всемирной организации по аллергии при анафилаксии (World Allergy Organization Anaphylaxis Guidance, WAOAG [3]) рассматриваются в рамках важных диагностических критериев анафилаксии, в текущем анализе учитывались отдельно и составили 64% случаев. Частота симптомов со стороны гастроинтестинальной системы составила 55%, поражения центральной нервной системы — 48%, сердечно-сосудистой системы — 43% (табл. 4).
Таблица 4. Частота вовлечения систем органов при развитии анафилаксии в общей группе пациентов и в группах детей различного возраста Table 4. The frequency of involvement of organ systems in anaphylaxis in the general group of patients and in groups of children of different ages | |||||
Вовлечённая система | Группы, возраст, лет | ||||
Общая n=69 (%) | 0–3 n=16 (%) | 3–7 лет n=11 (%) | 7–13 n=16 (%) | 13–18 n=26 (%) | |
Кожа/слизистые | 65 (94) | 16 (100) | 10 (91) | 16 (100) | 23 (88) |
Органы дыхательной системы | 54 (78) | 12 (75) | 7 (64) | 11 (69) | 24 (92) |
Ларингеальные симптомы | 44 (64) | 9 (56) | 6 (55) | 12 (75) | 17 (65) |
Гастроинтестинальный тракт | 38 (55) | 11 (69) | 8 (72) | 8 (72) | 11 (42) |
Центральная нервная система | 33 (48) | 12 (75) | 6 (55) | 4 (25) | 11 (42) |
Сердечно-сосудистая система | 30 (43) | 8 (50) | 4 (36) | 6 (38) | 12 (46) |
Наиболее частым проявлением анафилаксии со стороны кожи/слизистых являлся ангиоотёк различной локализации (82%), со стороны респираторного тракта — удушье/затруднение дыхания (67%), ларингеальные симптомы в 75% случаев проявлялись затруднением/болезненностью глотания, гастроинтестинальные проявления в 76% манифестировали рвотой (табл. 5). Частым симптомом со стороны центральной нервной системы являлась сонливость/вялость (76%), в единичных случаях имели место тремор и чувство страха смерти. Симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы у 57% пациентов проявлялись головокружением, у 40% детей фиксировалась гипотензия.
Для групп пациентов различного возраста частота вовлечённости систем органов при развитии анафилаксии несколько варьировала (см. табл. 5). Так, среди пациентов в возрасте 13–18 лет отмечалась меньшая частота симптомов со стороны кожи/слизистых (88%) и гастроинтестинального тракта (42%), максимальная частота задействования респираторного тракта (92%) в сравнении с детьми более младшего возраста. Наибольшая частота ларингеальных симптомов имела место в группе пациентов от 7 до 13 лет (75%). Высокая частота симптомов со стороны центральной нервной системы отмечена в группе детей до 3 лет, при этом получены статистически значимые различия в сравнении с пациентами в возрасте от 7 до 13 лет (75 против 25%; p=0,007). Симптомы со стороны сердечно-сосудистой системы в группах варьировали от 36 до 50%.
Таблица 5. Клинические симптомы анафилаксии Table 5. Clinical symptoms of anaphylaxis | ||
Вовлечённая система | Клинические симптомы | n (%) |
Кожа/слизистые n=65 | Ангиоотёк губ/шеи/век/языка Крапивница/сыпь Чувство жара | 53 (82) 37 (57) 8 (12) |
Органы дыхательной системы n=54 | Удушье/затруднение дыхания Кашель Свистящее дыхание Заложенность носа/чихание/ринорея | 36 (67) 24 (44) 8 (15) 2 (4) |
Ларингеальные симптомы n=44 | Затруднение/болезненность глотания Осиплость/исчезновение голоса | 33 (75) 15 (34) |
Гастроинтестинальный тракт n=38 | Рвота Боли в животе Диарея | 29 (76) 15 (39) 3 (8) |
Центральная нервная система n=33 | Сонливость/вялость Спутанность/потеря сознания Страх смерти Тремор | 25 (76) 9 (27) 1 (3) 1 (3) |
Сердечно-сосудистая система n=30 | Головокружение Гипотензия Тахикардия | 17 (57) 12 (40) 1 (3) |
Диагностика и лечение анафилаксии на догоспитальном этапе
В рамках самопомощи лишь один пациент с ранее верифицированным диагнозом анафилаксии получил инъекцию эпинефрина.
На догоспитальном этапе эпинефрин в качестве скорой медицинской помощи в лечении анафилаксии был введён 37 (54%) пациентам. Наибольшая частота введения эпинефрина определялась у подростков 13–18 лет (n=19; 73%), наименьшая — у детей в возрасте от 0 до 3 лет (n=4; 25%), получены статистически значимые различия между группами (p=0,003) (рис. 4). В общей группе детей в 59% (n=41) и 78% (n=54) случаев для купирования симптомов анафилаксии применялись антигистаминные и глюкокортикоидные препараты соответственно. Диагноз анафилаксии на этапе скорой медицинской помощи выставлен лишь 15 (22%) пациентам.
Рис. 4. Частота применения эпинефрина для купирования анафилаксии в общей группе детей и группах пациентов разного возраста.
Fig. 4. Frequency of epinephrine use in anaphylaxis in the general group of children and in groups of patients of different ages.
ОБСУЖДЕНИЕ
Резюме основного результата исследования
Настоящее исследование, проведённое в рамках работы Педиатрического Московского регистра анафилаксии, позволило проспективно оценить частоту, широкий спектр триггеров и особенности клинических симптомов анафилаксии с учётом возрастных и гендерных различий детей Московского региона. Более того, получены данные в отношении частоты постановки диагноза анафилаксии у детей и использования эпинефрина в лечении нозологии на догоспитальном этапе оказания скорой медицинской помощи, что, несомненно, важно для объективной оценки существующих проблем в реальной клинической практике.
Обсуждение основного результата исследования
На сегодняшний день в большинстве стран мира отмечена тенденция глобального увеличения числа госпитализаций как в связи с анафилаксией в целом, так и анафилаксией к различным триггерам [10, 11]. В настоящем исследовании частота анафилаксии среди детей, экстренно госпитализированных с острыми аллергическими реакциями в ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» за период с мая 2022 по сентябрь 2023 года, составила 5,8%. Данные показатели оказались несколько ниже результатов, продемонстрированных нами ранее в ретроспективной работе, где частота анафилаксии за пятилетний период среди детей, госпитализированных с острыми аллергическими реакциями, составила 7,18% [12]. Подобные различия могут быть связаны с методологическими особенностями настоящего исследования, в частности коротким периодом включения пациентов, наличием обученного в отношении анафилаксии врачебного персонала и независимого мнения двух экспертов, а также проспективной оценкой симптомов, которая, несомненно, определяет более высокую достоверность диагноза.
При анализе гендерных и возрастных характеристик в общей группе детей с анафилаксией преобладал мужской пол (59%), что согласуется с данными большинства исследований, включая регистры анафилаксии разных стран, где более чем в половине случаев педиатрической анафилаксии страдают лица мужского пола [7–9, 12–15]. По нашим данным, эта тенденция сохранялась также среди пациентов в возрасте до 13 лет (70% мальчиков), однако среди подростков 13–18 лет, напротив, доминировал женский пол (56%). Схожие результаты показаны Y. Wang и соавт. [10] в масштабном систематическом обзоре, где среди мальчиков в возрасте до 10 лет наблюдалась более высокая частота анафилаксии, чем у девочек, однако с возраста 10 лет и старше у девочек частота анафилаксии была сопоставимой или более высокой относительно мужского пола. Кроме того, для взрослых пациентов с анафилаксией также характерно превалирование женского пола [7, 9].
Согласно оценке возрастных групп пациентов с анафилаксией, 62% реакций приходилось на пациентов до 13 лет, 1/3 (38%) — на школьников 13–18 лет, минимальный возраст на первом году жизни составил 1 месяц. По данным большинства сообщений, значительная доля анафилактических реакций наблюдается в дошкольном (15,5–78,2%) или раннем школьном (12–35,1%) возрасте, среди подростков, напротив, частота анафилаксии несколько снижается (5,7–27,2%), при этом показатели в разных исследованиях сильно варьируют в зависимости от численности выборки [7, 8, 14, 16].
По результатам большинства работ, более чем в половине случаев (57,6–65%) анафилаксия развивается в домашних условиях [7, 13, 16]. По данным нашего регистра, частота таких реакций достигает 75%; кроме того, в 10% случаев анафилаксия может возникать на улице, до 6% — в школе или местах общественного питания. Столь высокая доля анафилаксии в домашних условиях связана с непредвиденностью первого в жизни эпизода анафилактической реакции, что диктует необходимость более высокого внимания со стороны ребёнка и его родителей к элиминации уже известного причинно-значимого триггера.
Наиболее значимыми предполагаемыми триггерами анафилаксии, с которыми пациенты регистра или их родители связывали развитие симптомов, являлись различные пищевые аллергены (84%); анафилаксии к лекарственным препаратам встречалась значительно реже (4,3%), анафилаксия без чёткой связи с каким-либо триггером составила 6%. Доминирующее значение пищевого триггера прослеживается в ряде аналогичных работ (до 96,2%) и является характерным для детей с анафилаксией [7, 8, 12–16]. Вместе с тем важной особенностью пациентов нашего регистра являлось сохранение высокой значимости пищевого триггера для анафилаксии в группах пациентов разного возраста, в то время как в большинстве исследований фиксируют снижение частоты пищевой анафилаксии по мере увеличения возраста детей [7, 16].
Сообщения из разных стран в отношении доминирующих причин пищевой анафилаксии варьируют, что может быть связано с особенностями рациона конкретного региона и возраста пациентов. Так, значимыми триггерами пищевой анафилаксии у детей, по данным педиатрических отделений Турции и регистра Кореи, являются аллергены куриного яйца и молока [7, 16], регистра стран Северной Африки — арахис и куриное яйцо [16], по данным отделений неотложной терапии Испании — молоко и орехи деревьев [13], стран Азии (Бангкок, Таиланд) — рыба/морепродукты и пшеница [15]. По результатам нашей работы, предполагаемой причиной более 1/3 (35%) реакций в общей группе детей, со слов пациента/родителей, выступали орехи деревьев, в 17% случаев — кондитерские изделия (торты, конфеты, пирожное и др.), имеющие поликомпонентный состав и, соответственно, крайне высокий риск наличия скрытых аллергенов (следовые количества орехов, арахиса, кунжута, молока, куриного яйца, пшеницы и др.). Данный факт обосновывает в качестве рекомендации при выписке из стационара исключение поликомпонентных продуктов, произведённых с использованием пищевых технологий. Важно отметь, что доминирующее значение орехов деревьев в развитии анафилаксии уже было зафиксировано нами ранее среди пациентов, госпитализированных в одну из московских больниц [12], что подчёркивает актуальность этих аллергенов для нашего региона. При анализе возрастзависимых особенностей распределения пищевых триггеров настоящего регистра фиксировалась тенденция снижения частоты анафилаксии к молоку и куриному яйцу с увеличением возраста детей; кроме того, в группе пациентов от 3 до 7 лет определялась максимальная частота анафилаксии на орехи деревьев (60%), а среди детей до 3 лет более 1/3 реакций были связаны с употреблением кондитерских изделий.
В ходе работы показано, что при развитии анафилаксии более половины детей (56%) испытывали симптомы со стороны четырёх и более систем органов, около 1/3 (31%) пациентов — со стороны трёх систем. Вместе с тем, по до данным ряда аналогичных работ, большая доля анафилактических реакций у детей протекает с вовлечением двух систем органов [9, 17]. Полученные различия могут быть связаны с проспективным характером настоящего исследования и, как следствие, большей объективизацией клинической картины анафилаксии.
В клинической картине анафилактических реакций регистра наиболее часто имели место симптомы поражения со стороны кожи/слизистых (94%) и органов дыхательной системы (78%), что согласуется с данными большинства работ [7–9, 12–17]. На третьем по частоте месте определялись ларингеальные симптомы (64%), которые исключительно редко анализируются в работах отдельно. Вместе с тем в новых критериях WAOAG (2020) [3] симптомы вовлечения гортани рассматриваются в рамках важных диагностических критериев анафилаксии, и показанная нами столь высокая их частота у детей, безусловно, заслуживает особого внимания клиницистов. Среди возрастных особенностей распределения симптомов анафилаксии нашего регистра можно выделить тенденцию снижения частоты симптомов со стороны кожи/слизистых и гастроинтестинального тракта и максимальную частоту задействования респираторного тракта у подростков 13–18 лет в сравнении с детьми более младшего возраста. Кроме того, в группе детей до 3 лет была зафиксирована самая высокая частота симптомов со стороны центральной нервной системы (75%).
Низкая частота верификации анафилаксии и отсутствие введения эпинефрина при купировании её симптомов, в том числе на догоспитальном этапе скорой медицинской помощи, продолжают оставаться актуальной проблемой по данным большинства регистров и исследовательских работ [7–9, 12–18]. Международный опрос врачей, проведённый нами в 2021 году, показал, что гиподиагностика анафилаксии у детей достигает 50%, но даже при правильной постановке диагноза в половине случаев пациентам не назначается эпинефрин [6], что чаще связано с недостаточным уровнем знаний специалистов [17–20]. Кроме того, по данным G. Pouessel и соавт. [20], к важному фактору, определяющему низкую частоту использования эпинефрина при анафилаксии, относится недооценка тяжести её симптомов. В ходе нашей работы на догоспитальном этапе оказания скорой медицинской помощи диагноз анафилаксии был выставлен лишь 22% детей, однако частота введения эпинефрина составила 54%. Эта ситуация, возможно, связана с исключительно коротким временным промежутком, который зачастую недостаточен для верификации диагноза анафилаксии, но при этом врачи скорой медицинской помощи адекватно оценивают тяжесть состояния ребёнка и более чем в половине случаев проводят необходимую терапию. Достоверно чаще (73%) эпинефрин использовался у подростков 13–18 лет в сравнении пациентами в возрасте до 3 лет, где частота его введения была минимальной (25%). Подобное наблюдение, по нашему мнению, связано со сложностями дозирования препарата у детей раннего возраста ввиду отсутствия в Российской Федерации доступности аутоинъекторов эпинефрина и, как следствие, боязнью передозировки и риска развития побочных эффектов.
Ограничения исследования
Следует отметить, что настоящая научно-исследовательская работа имела ряд ограничений, связанных с охватом непродолжительного периода работы регистра, как следствие, ограничением объёма анализируемой выборки пациентов, неравнозначностью рассматриваемых и сравниваемых групп по численности, что в ряде случаев позволяло фиксировать лишь тенденцию без определения достоверности различий. Вместе с тем данные, полученные в ходе настоящего исследования, наглядно демонстрируют опыт работы запущенного первого в Российской Федерации Педиатрического Московского регистра анафилаксии и имеют важное практическое значение, так как прицельно характеризуют особенности анафилаксии (триггеры, симптомы и другие параметры) у детей Московского региона, которые необходимо учитывать. Постепенное увеличение охвата регистром детей, страдающих анафилаксией, позволит минимизировать озвученные ограничения в рамках последующих исследовательских работ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данные опыта работы первого в Российской Федерации Педиатрического Московского регистра анафилаксии демонстрируют, что частота анафилаксии среди пациентов, госпитализируемых экстренно в стационар в связи с острыми аллергическими реакциями, достаточно высокая и достигает 5,8%. Более 1/3 анафилактических реакций приходится на подростков 13–18 лет, 62% — на пациентов до 13 лет, при этом анафилаксия встречается даже на первом месяце жизни. Среди пациентов с анафилаксией в возрасте до 13 лет превалируют мальчики, среди подростков 13–18 лет — лица женского пола.
Наиболее часто анафилаксия развивается в домашних условиях, что диктует особую необходимость тщательного обучения врачом пациента и его родителей правилам элиминации причинно-значимого триггера и мерам самопомощи.
Доминирующими триггерами анафилактических реакций у российских детей независимо от их возраста являются пищевые аллергены. Орехи деревьев представляются основным триггером, индуцирующим пищевую анафилаксию более чем в 1/3 случаев; второй по частоте причиной анафилактических реакций являются кондитерские изделия, имеющие крайне высокий риск наличия различных скрытых аллергенов.
При развитии анафилаксии более половины детей испытывают симптомы со стороны четырёх и более систем органов, при этом наиболее часто вовлечены кожа/слизистые, органы дыхательной системы, глотки и гортани.
На догоспитальном этапе оказания скорой медицинской помощи частота верификации диагноза анафилаксии не превышает 22%; введение эпинефрина отмечается в 54% случаев, при этом минимальное его использование наблюдается среди детей первых 3 лет жизни.
Дальнейшая работа Педиатрического Московского регистра анафилаксии и анализ клинико-лабораторных данных пациентов в совокупности с результатами инновационных исследований будут направлены на оптимизацию диагностики и оказания помощи больным анафилаксией, разработку стратегии новых методов терапии и профилактики заболевания, объективизацию эпидемиологических данных и повышение уровня знаний и навыков врачей по данной нозологии.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Источник финансирования. Исследование проведено при поддержке гранта Правительства Москвы на реализацию научно-практического проекта в медицине № 0408-1.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: Н.В. Есакова, А.Н. Пампура — концепция и оформление статьи, статистическая обработка и анализ данных; Н.В. Есакова, А.Н. Пампура, Е.С. Бусова, З.С. Бжекшиева, М.Е. Леонтьева, Е.И. Ковтун, Я.О. Кара — сбор информации и написание текста; А.Н. Пампура, С.Б. Зимин, В.В. Горев, И.П. Витковская — редактирование статьи.
ADDITIONAL INFORMATION
Funding source. The research was supported by a grant from the Government of Moscow No. 0408-1.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors' contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. N.V. Esakova, A.N. Pampura — the concept and design of the article, statistical processing and data analysis; N.V. Esakova, A.N. Pampura, E.S. Busova, Z.S. Bzhekshieva, M.E. Leonteva, E.I. Kovtun, Ya.O. Kara, E.Yu. Konovalov, S.S. Lushnikov — collecting information and writing the text; A.N. Pampura, S.B. Zimin, V.V. Gorev, I.P. Vitkovskaya — editorial board.
About the authors
Alexander N. Pampura
Morozov Children's Municipal Clinical Hospital; Veltischev Research and Clinical Institute for Pediatrics and Pediatric Surgery of the Pirogov Russian National Research Medical University of the Russian Ministry of Health
Email: apampura@pedklin.ru
ORCID iD: 0000-0001-5039-8473
SPIN-code: 9722-7961
MD, Dr. Sci. (Med.), Professor
Россия, Moscow; MoscowNatalia V. Esakova
Veltischev Research and Clinical Institute for Pediatrics and Pediatric Surgery of the Pirogov Russian National Research Medical University of the Russian Ministry of Health
Author for correspondence.
Email: env007@rambler.ru
ORCID iD: 0000-0001-8792-2670
SPIN-code: 6924-9726
MD, Cand. Sci. (Med.)
Россия, MoscowSergey B. Zimin
Morozov Children's Municipal Clinical Hospital
Email: 23otd@morozdgkb.ru
ORCID iD: 0000-0002-4514-8469
SPIN-code: 4363-1578
MD
Россия, MoscowEkaterina I. Кovtun
Morozov Children's Municipal Clinical Hospital
Email: EKovtun@morozdgkb.ru
ORCID iD: 0000-0002-1508-314X
SPIN-code: 6219-0640
MD
Россия, MoscowYanina O. Kara
Morozov Children's Municipal Clinical Hospital
Email: Yolegovna@morozdgkb.ru
ORCID iD: 0009-0009-6929-141X
SPIN-code: 7472-9934
MD
Россия, MoscowElena S. Busova
Morozov Children's Municipal Clinical Hospital
Email: ESBusova@morozdgkb.ru
ORCID iD: 0009-0009-9121-5501
MD
Россия, MoscowZareta S. Bzhekshieva
Morozov Children's Municipal Clinical Hospital
Email: ZBzhekshieva@morozdgkb.ru
ORCID iD: 0009-0009-7375-7526
SPIN-code: 9844-6674
MD
Россия, MoscowMarina E. Leonteva
Morozov Children's Municipal Clinical Hospital
Email: MLeonteva@morozdgkb.ru
ORCID iD: 0000-0002-0799-1025
SPIN-code: 1128-8656
MD
Россия, MoscowIrina P. Vitkovskaya
Morozov Children's Municipal Clinical Hospital
Email: IVitkovskaya@morozdgkb.ru
ORCID iD: 0000-0002-0740-1558
SPIN-code: 2970-0361
MD, Cand. Sci. (Med.)
Россия, MoscowValery V. Gorev
Morozov Children's Municipal Clinical Hospital
Email: mdgkb@zdrav.mos.ru
ORCID iD: 0000-0001-8272-3648
SPIN-code: 8944-9664
MD, Cand. Sci. (Med.)
Россия, MoscowReferences
- Anaphylactic shock. Clinical recommendations. Russian Association of Allergists and Clinical Immunologists, Federation of Anaesthesiologists and Resuscitators. 2020. 36 р. (In Russ).
- Muraro A, Worm M, Alviani C, et al.; European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Food Allergy, Anaphylaxis Guidelines Group. EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update). Allergy. 2022;77(2):357–377. doi: 10.1111/all.15032
- Cardona V, Ansotegui IJ, Ebisawa M, et al. World Allergy Organization anaphylaxis guidance, 2020. World Allergy Organ J. 2020;13(10):100472. doi: 10.1016/j.waojou.2020.100472
- Esakova N, Treneva M, Okuneva T, Pampura AN. Food anaphylaxis: Reported cases in Russian Federation children. Am J Public Health Res. 2015;3(5):187–191. doi: 10.12691/ajphr-3-5-2
- Lepeshkova TS. Analysis of the prevalence of food hypersensitivity and food anaphylaxis in the children's population of Ekaterinburg. Russ J Allergy. 2021;18(2):46–54. EDN: GSWVWJ doi: 10.36691/RJA1427
- Pampura AN, Esakova NV, Dolotova DD, et al. The results of the evaluation of the international testing "acute reactions in children" among doctors of various specialties. Russ J Allergy. 2023;20(1):29–40. EDN: HLRWBM doi: 10.36691/RJA1589
- Jeong K, Ye YM, Kim SH, et al. A multicenter anaphylaxis registry in Korea: Clinical characteristics and acute treatment details from infants to older adults. World Allergy Organization J. 2020;13(8):100449. doi: 10.1016/j.waojou.2020.100449
- Tarczoń I, Jedynak-Wąsowicz U, Lis G, et al. Intervention in anaphylaxis: The experience of one paediatric centre based on NORA reports. Adv Dermatol Allergol. 2021;38(2):235–243. doi: 10.5114/ada.2019.89715
- Poziomkowska-Gęsicka I, Kurek M. Clinical manifestations and causes of anaphylaxis. Analysis of 382 cases from the Anaphylaxis Registry in West Pomerania Province in Poland. Int J Environ Res Public Health. 2020;17(8):2787. doi: 10.3390/ijerph17082787
- Wang Y, Allen KJ, Suaini NH, et al. The global incidence and prevalence of anaphylaxis in children in the general population: A systematic review. Allergy. 2019;74(6):1063–1080. doi: 10.1111/all.12702
- Turner PJ, Campbell D., Motosue MS, Campbell RL. Global trends in anaphylaxis epidemiology and clinical implications. J Allergy Clin Immunol Pract. 2020;8(4):1169–1176. doi: 10.1016/j.jaip.2019.11.027
- Esakova NV, Zakharova IN, Osmanov IM, et al. Anaphylaxis among children hospitalized with severe allergic reactions: A 5-year retrospective analysis. Pediatric Nutrition. 2022;20(4):21–30. EDN: QYKHCW doi: 10.20953/1727-5784-2022-4-21-30
- Olabarri M, Sanz N, Gonzalez-Peris S, et al. Characteristics of pediatric emergency department presentations of anaphylaxis in Spain. Pediatr Emerg Care. 2023;39(10):755–759. EDN: NPSIGI doi: 10.1097/PEC.0000000000003039
- Yagmur IT, Celik IK, Topal OY, et al. The Etiology, clinical features, and severity of anaphylaxis in childhood by age groups. Int Arch Allergy Immunol. 2022;183(6):600–610. EDN: YJIPQC doi: 10.1159/000521063
- Nantanee R, Suratannon N, Chatchatee P. Characteristics and laboratory findings of food-induced anaphylaxis in children: Study in an Asian Developing Country. Int Arch Allergy Immunol. 2022;183(1):59–67. doi: 10.1159/000518319
- Chippendale S, Reichmuth K, Worm M, Levin M. Paediatric anaphylaxis in South Africa. World Allergy Organ J. 2022;15(9):100666. doi: 10.1016/j.waojou.2022.100666
- Vamvakaris K, Koumpoura A, Farmaki M, et al. Diagnosis, management and prescription practices of adrenaline in children with food-induced anaphylaxis: Audit in a Specialized Pediatric Allergy Department. J Pers Med. 2022;12(9):1477. EDN: AJHTTK doi: 10.3390/jpm12091477
- Grabenhenrich LB, Dölle S, Ruëff F, et al. Epinephrine in severe allergic reactions: The European Anaphylaxis Register. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018;6(6):1898–1906. doi: 10.1016/j.jaip.2018.02.026
- González-Díaz SN, Villarreal-Gonzálezet RV, Fuentes-Laraal EI, et al. Knowledge of healthcare providers in the management of anaphylaxis. World Allergy Organ J. 2021;14(11):100599. doi: 10.1016/j.waojou.2021.100599
- Pouessel G, Antoine M, Pierache A, et al. Factors associated with the underuse of adrenaline in children with anaphylaxis. Clin Exp Allergy. 2021;51(5):726–729. doi: 10.1111/cea.13821
Supplementary files