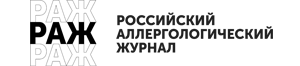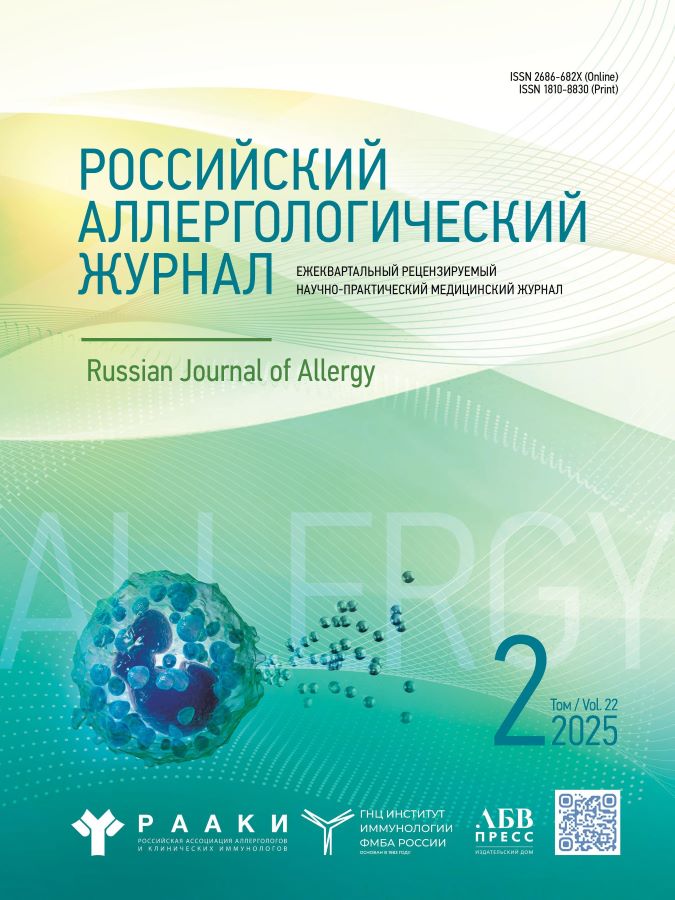Генетические факторы риска пищевой аллергии: обзор полногеномных исследований
- Авторы: Кутас У.В.1, Федорова О.С.1, Брагина Е.Ю.2
-
Учреждения:
- Сибирский государственный медицинский университет
- Томский национальный исследовательский медицинский центр, Научно-исследовательский институт медицинской генетики
- Выпуск: Том 19, № 4 (2022)
- Страницы: 494-507
- Раздел: Систематические обзоры
- Дата подачи: 09.11.2022
- Дата принятия к публикации: 12.12.2022
- Дата публикации: 05.12.2022
- URL: https://rusalljournal.ru/raj/article/view/1582
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA1582
- ID: 1582
Цитировать
Аннотация
Обоснование. Пищевая аллергия является актуальной проблемой для общественного здравоохранения во всём мире: заболевание снижает качество жизни пациентов, повышает риск развития непрогнозируемых анафилактических реакций.
Цель ― анализ генетических исследований в когортах пациентов с пищевой аллергией, направленных на оценку роли генетических факторов в развитии данной патологии.
Материалы и методы. Проведён анализ результатов полногеномных ассоциативных исследований по изучению влияния генетических факторов на развитие пищевой аллергии. В обзор включены оригинальные статьи, опубликованные в период с 01.01.2012 по 31.12.2021.
Результаты. Данный обзор позволил систематизировать данные о связи генетических вариаций, связанных с пищевой аллергией, в результате полногеномного скрининга. Из 8 анализируемых исследований максимальный эффект с развитием IgE-опосредованной пищевой аллергии на арахис установлен для варианта rs10018666 гена SLC2A9 у европейцев. Для некоторых аллергенов найдены ассоциации со специфическими локусами: например, варианты rs9273440 (HLA-DQB1), rs115218289 (ITGA6), rs10018666 (SLC2A9) и другие являются уникальными для арахиса. Ассоциированные варианты связаны преимущественно с нарушениями врождённого/адаптивного иммунного ответа и функционирования эпителиального барьера, подтверждая их ведущую роль в развитии пищевой аллергии. Помимо ассоциаций с пищевой аллергией, большинство идентифицированных генов влияют на развитие других фенотипов аллергического марша, включая атопический дерматит, атопическую бронхиальную астму, аллергический ринит, а также неаллергических заболеваний (сахарный диабет 2-го типа, болезнь Паркинсона, инфаркт миокарда и др.).
Заключение. Суммируя результаты полногеномных ассоциативных исследований, необходимо отметить, что в развитии пищевой аллергии участвуют варианты, локализованные как в известных для атопии, так и во вновь выявленных локусах, не имеющих отношение к развитию других аллергических заболеваний. Особенности структуры пищевой сенсибилизации и недостаточность исследований по вопросам подверженности пищевой аллергии в России определяют направление дальнейших научных исследований в этой области.
Полный текст
ОБОСНОВАНИЕ
Пищевая аллергия (ПА) является актуальной проблемой для общественного здравоохранения во всём мире: данное заболевание снижает качество жизни пациентов, повышает риск развития непрогнозируемых анафилактических реакций [1]. Согласно данным исследований, наблюдается тенденция к росту распространённости ПА в мире, в том числе отмечается неоднородность показателей распространённости в разных странах (от 1–5% в Европе и США до 10% в Австралии) [2, 3]. Наиболее часто данная патология манифестирует в младенческом и раннем детском возрасте [2, 3]. В США значимыми аллергенами в детской популяции являются арахис, молоко, моллюски и лесные орехи, а в Китае ― куриное яйцо, молоко, рыба, креветки и соя [3, 4]. В Российской Федерации в популяции детей в возрасте 7–10 лет распространённость заболевания составляет 1,2%, а ведущими пищевыми аллергенами являются рыба, яблоко, яйцо, морковь, фундук, арахис [4]. При этом ПА имеет большое значение в дебюте атопического марша и дальнейшем развитии таких аллергических заболеваний, как атопический дерматит, бронхиальная астма, аллергический ринит, у детей старшей возрастной группы [5–7].
Распространённость ПА у городских жителей выше по сравнению с сельскими районами и возрастает с уровнем урбанизации страны [8]. В мире частота анафилактических реакций неуклонно растёт: увеличивается частота госпитализаций по поводу анафилактического шока, вызванного пищевым триггером [9, 10].
Согласно накопленным данным, отмечается значимый вклад в развитие ПА как факторов внешней среды, так и генетической предрасположенности [11]. Наследуемость для ПА, по данным нескольких близнецовых исследований, варьирует от 15 до 82% [12–14]. Широкий диапазон наследуемости свидетельствует о том, что в развитие заболевания существенный вклад вносит генетическая компонента, которая может быть модифицирована воздействием средовой составляющей, поэтому исследования генетических факторов развития ПА важны в каждом конкретном регионе проживания.
Исследования, направленные на поиск полногеномных ассоциаций (genome-wide association study, GWAS), позволяют определить связь генетических вариаций с определённым признаком. Так, за последнее время с помощью GWAS идентифицированы новые генетические локусы, отражающие взаимосвязь с развитием ПА [15]. Помимо GWAS, выполнены многочисленные исследования, в которых применён подход, основанный на отдельных генах-кандидатах патогенеза заболевания.
Цель систематического обзора ― анализ полногеномных ассоциативных исследований ПА, направленных на оценку роли генетических факторов в развитии данной патологии.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Методология
Проведён анализ данных литературы, в которых представлены результаты эпидемиологических одномоментных исследований, направленных на изучение влияния генетических факторов в развитии ПА. Поиск выполнен с использованием ресурсов, каталогизирующих биомедицинскую научную литературу: PubMed и eLibrary. В обзор включены оригинальные статьи, опубликованные за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2021 г.
Алгоритм анализа
1-й этап. Первичный поиск публикаций по ключевым словам и заголовкам. Для поиска в системе PubMed использованы следующие ключевые слова: «food allergy», «genetic risk factors», «single nucleotide polymorphism», «genome wide association study», «candidate gene association study». Поиск в электронной библиотеке eLibrary осуществлялся по следующим словам: «пищевая аллергия», «генетические маркеры», «генетические факторы риска», «полиморфизм генов». На данном этапе изучены материалы 415 статей из системы PubMed и 13 статей из системы eLibrary.
2-й этап. Проанализированы материалы публикаций, полученных при первоначальном поиске; исключены 355 работ, не содержащих данные о генетических маркерах, связанных с развитием ПА, а также дубликаты. Русскоязычных статей, удовлетворяющих критериям поиска, не найдено. Для дальнейшего анализа на данном этапе выбрано 73 публикации.
3-й этап. Проведён тщательный анализ полного текста 73 публикаций. На данном этапе исключены обзорные публикации, сравнительные клинические исследования, ретроспективные исследования и т.д. По результатам третьего этапа для подготовки обзора в анализ включены 8 публикаций, содержащих данные о результатах эпидемиологических исследований, соответствующих критериям включения. Обязательными критериями включения являлись полнота схемы исследования, включая характеристику выборки, критерии отбора и дизайн исследования (полногеномный поиск ассоциаций), наличие данных о генетических факторах риска развития ПА.
Алгоритм поиска публикаций представлен на рис. 1.
Рис. 1. Алгоритм поиска публикаций.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Характеристика эпидемиологических исследований
В данном обзоре представлены результаты 8 одномоментных исследований, проведённых в период с 2012 по 2021 г. и направленных на поиск полногеномных ассоциаций (табл. 1) [16–23]. В ходе данных исследований обнаружены связанные с развитием ПА генетические маркеры в различных локусах гена.
Таблица 1. Результаты исследований по поиску полногеномных ассоциаций за период с 2012 по 2021 г.
Table 1. Results of studies on the search for genome-wide associations performed in the period from 2012 to 2021
Автор, год, страна | Этническая принадлежность | Общий размер выборки | Критерии формирования выборки | Фенотип пищевой аллергии | Аллергены | Генетические аспекты | Валидность | ||
Локус | Хромосома | SNP | |||||||
Marenholz и соавт., 2017, Германия [20] | Европейская популяция | Группа случая (n=523); группа контроля (n=2682) | Клинические проявления ПА, и/или содержание специфического IgE ≥0,35 кЕдА/л в сыворотке крови, и/или пищевые провокационные тесты | Дети с IgE-опосредованной ПА без проявлений АтД | - | - | 1q21.3 | rs12123821 | ОШ 2,55; р=8,4×10-10 |
- | - | 5q31.1 | rs11949166 | ОШ 0,60; p =1,2×10-13 | |||||
- | FLG | 1q21.3 | rs12123821 | ОШ 1,77; 95% ДИ 1,15–2,74; p=0,0094 | |||||
Куриное яйцо | FLG | 1q21.3 | rs12123821 | ОШ 2.67; p=7,0×10-8 | |||||
Молоко | FLG | 1q21.3 | rs12123821 | ОШ 3,59; p=2,4×10-9 | |||||
Арахис | FLG | 1q21.3 | rs12123821 | ОШ 2,35; p=1,5×10-4 | |||||
Дети с IgE-опосредованной ПА без проявлений АтД | - | IL5/RAD50 и IL4/KIF3A | 5q31.1 | rs11949166 | ОШ 1,61; 95% ДИ 1,27–2,04; p=8,9×10-5 | ||||
Дети с IgE-опосредованной ПА и АтД | - | ОШ 1,69; 95% ДИ 1,50–1,91; р=2,4×10-17 | |||||||
Дети с IgE-опосредованной ПА без проявлений АтД | - | C11orf30/ LRRC32 | 11q13.5 | rs2212434 | ОШ 1,14; 95% ДИ 0,90–1,44; p=0,29 | ||||
Дети с IgE-опосредованной ПА и АтД | - | ОШ 1,40; 95% ДИ 1,25–1,58; р=1,9×10-8 | |||||||
Дети с IgE-опосредованной ПА | - | SERPINB7 | 18q21.3 | rs12964116 | p=1,8×10-8 | ||||
Арахис | rs12964116 | p=1,9×10-10 | |||||||
Куриное яйцо | SERPINB7/B2 | 18q21.3 | rs1243064 | p=4,2×10-8 | |||||
Арахис | HLA-DQB1 | 6p21 | rs9273440 | p=6,6×10-7 | |||||
Fukunaga и соавт., 2021, Япония [21] | Азиатская популяция | Группа случая (n=107); группа контроля (n=1359) | Клинические проявления ПА и содержание специфического IgE ≥0,35 кЕдА/л в сыворотке крови | IgE-опосредованная ПА, вызванная физическими упражнениями после употребления продуктов из пшеницы | Глиадин | HLA-DPB1*02: 01:02 | 6 | rs9277630 | ОШ 4,51; 95% ДИ 2,66–7,63; р=2,28×10-9 |
Liu и соавт., 2018, Китай [19] | Европейская популяция | n=588 | Клинические проявления ПА, и/или содержание специфического IgE ≥0,35 кЕдА/л в сыворотке крови, и/или КПТ диаметр волдыря >3 мм | IgE-опосредованная ПА | - | LOC101927947 | 4 | rs4235235 | p=4,82×10-8 |
Яйцо | ZNF652 | 17 | rs1343795 | p = 4,47×10-7 | |||||
Яйцо | ZNF652 | 17 | rs4572450 | ||||||
Арахис | ADGB | 6 | rs4896888 | ОШ 0,15; 95% ДИ 0,07–0,31; p=2,66×10-7 | |||||
- | IQCE | 7 | rs1036504 | ОШ 2,95; 95% ДИ 1,84–4,75; p=8,29×10-6 | |||||
Martino и соавт., 2016, Австралия [23] | Европейская популяция | Группа случая (n=73); группа контроля (n=148) | Клинические проявления ПА, и/или содержание специфического IgE ≥0,35 кЕдА/л в сыворотке крови, пищевые провокационные тесты, и/или КПТ диаметр волдыря >3 мм | IgE-опосредованная ПА | Арахис | SLC2A9 | 4 | rs10018666 | ОШ 5,9; р=4×10-8 |
Hong и соавт., 2015, США [16] | Европейская популяция | n=2197 | Клинические проявления ПА, и/или содержание специфического IgE ≥0,35 кЕдА/л в сыворотке крови, и/или КПТ диаметр волдыря >3 мм | IgE-опосредованная ПА | Арахис | Межгенный регион HLA-DQB1-HLA-DQA2 | 6p21.32 | rs7192-T | ОШ 1,7; 95% ДИ 1,4–2,1; p=5,5×10-8 |
rs9275596-C | ОШ 1,7; 95% ДИ 1,4–2,1; p=6,8×10-10 | ||||||||
Неевропейская популяция (мексиканцы, идусы, китайцы и др.) | n=497 | IgE-опосредованная ПА | Арахис | HLA-DR и -DQ | 6p21.32 | rs7192-T | ОШ 1,2; 95% ДИ 0,8–1,8; p=0,198 | ||
rs9275596-C | ОШ 1,2; 95% ДИ 0,8–1,8; p=0,327 | ||||||||
Asai и соавт., 2017, Канада [22] | Европейская популяция | Группа случая (n=850); группа контроля (n=926) | Клинические проявления ПА, и/или КПТ диаметр волдыря >3 мм | IgE-опосредованная ПА | Арахис | ITGA6 | 2 | rs115218289 | р=1,80×10-8 |
Rubicz и соавт., 2014, США [18] | Мексиканско-американская популяция | n=1367 | IgG | Клеточно- опосредованная ПА | Глиадин | HLA-DRA и BTNL2 | 6 | rs3135350 | p=8,6×10-8 |
Khor и соавт., 2017, Япония [17] | Азиатская популяция | n=11379 | Анкетирование | IgE-опосредованная ПА | Персик | HLA-DR/ HLA-DQ | 6 | rs28359884 | ОШ 1,68; p=1,15×10-7 |
Креветка | rs74995702 | ОШ 1,91; p=6,30×10-17 | |||||||
Примечание. ПА ― пищевая аллергия; АтД ― атопический дерматит; ПКТ ― прик-тест кожный.
Note: ПА ― food allergy; АтД ― atopic dermatitis; ПКТ ― skin prick test.
В соответствии с методологией ряд работ выполнен в дизайне одномоментных рандомизированных исследований (n=4) [16–19], остальные ― в дизайне случай-контроль (n=4) [20–23]. Исследования выполнены в разных возрастных группах: детские когорты (n=3), взрослые индивиды (n=5), а также семейные выборки (n=1). Исследования, проанализированные в обзоре, включают выборки с различными этническими группами как европейского (n=5), так и азиатского (n=3) происхождения, а также смешанные выборки, например мексиканско-американские.
Самым масштабным по численности участников является одномоментное исследование, проведённое в Японии, с общим числом 11 379 человек в возрасте 18–55 лет, однако его недостатки связаны со скрининговым характером диагностики ПА, основанным на анкетировании, что значительно ограничивает интерпретацию результатов [17].
В большинстве случаев исследователи использовали в качестве основных критериев диагностики ПА повышение концентрации специфического IgE (≥0,35 кЕдА/л) и положительные результаты кожных прик-тестов с наиболее распространёнными пищевыми аллергенами (средний диаметр папулы ≥3 мм) в сочетании с клиническими проявлениями ПА [16, 19–23]. В некоторых исследованиях для подтверждения ПА использовали золотой стандарт диагностики ― оральные провокационные тесты с пищевыми аллергенами [20, 23].
Несмотря на широкий географический диапазон исследований, в ходе анализа выявлено, что авторы преимущественно оценивали сенсибилизацию к наиболее значимым аллергенам, таким как молоко, яйцо, арахис [16, 19, 20, 22, 23]. В стороне не осталась и проблема, связанная с непереносимостью продуктов, содержащих в составе глиадин [18, 21]. В одном из исследований авторы изучали пищевые аллергены, учитывая особенности питания географического региона [17].
Технология полногеномного исследования
GWAS является инструментом исследования генетической архитектуры многофакторных заболеваний человека, который применяется для выявления генетических факторов, связанных с риском развития и клиническими фенотипами. Этот метод основан на определении частоты однонуклеотидных полиморфных вариантов (single nucleotide polymorphism, SNP), распределённых по всему геному, с использованием микрочипов или других технологий, которые позволяют одновременно генотипировать от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов SNP в одном образце. Возможность обнаружения различий в распространённости SNP между сравниваемыми группами больных и индивидов контрольной группы сделала GWAS методом, широко используемым для изучения генетической предрасположенности к комплексным заболеваниям, формирующимся на полигенной основе.
Со времени первого GWAS в 2002 г. [24], анализирующего генетическую предрасположенность к инфаркту миокарда, достижения этих исследований в идентификации генетических вариантов остаются весьма умеренными. Преимущественно это связано с исследованием фенотипов (реализация которых зависит не только от генетических факторов, но и выраженного участия средового компонента), популяционными особенностями и сложностью формирования групп пациентов и контроля. Самым успешным считается GWAS, выполненный R.J. Klein и соавт. в 2005 г. [25], в результате которого идентифицирован вариант в гене фактора комплемента H (CFH), влияющий на развитие наиболее распространённой формы слепоты в западном мире, возрастной дегенерации жёлтого пятна. Позже подобные успехи были достигнуты для других заболеваний: например, обнаружена связь между болезнью Крона и вариантом rs11209026 в гене рецептора к интерлейкину 23 (IL23R), которая в дальнейшем была подтверждена в репликационных исследованиях [26, 27]. Значимые сигналы GWAS относительно аллергических заболеваний зарегистрированы для генов, продукты которых преимущественно участвуют в иммунных реакциях, включая HLA-DQ, C11orf30, IL1R1, а также другие гены, в частности FLG, продукт которого обеспечивает поддержание функции кожного барьера [28]. Некоторые ассоциации имеют исключительно фенотипспецифичный характер: например, обнаружена связь варианта rs4915551 в гене DENND1B (1q31) с бронхиальной астмой у пациентов с высоким индексом массы тела [29]. В настоящее время потенциал полногеномных исследований по-прежнему остаётся высоким для открытия причинных генов многофакторных заболеваний.
Ген FLG. Филлагрин является белком, имеющим решающее значение для структуры и функции рогового слоя кожи. Этот белок оказывает значимую роль в развитии атопического дерматита [30]. Его предшественник профиллагрин кодируется геном FLG на хромосоме 1q23.3 [31]. Ранее учёными было выявлено, что LoF-мутация в гене FLG с потерей функции сильно связана с развитием атопического дерматита [32]. Данная мутация в гене эпидермального барьера повышает риск сенсибилизации к арахису и в дальнейшем риск ПА на арахис, вероятно, из-за повышенного проникновения аллергена через дефектный кожный барьер [33].
Нулевая мутация ― это мутация, при которой полностью исчезает активность определённого продукта, связанного с данным геном, или появляется продукт, который не функционирует должным образом. Так, нулевые мутации в гене FLG были связаны с развитием в течение жизни аллергических состояний [31]. В европейской популяции исследователями установлено, что вариант rs12123821, расположенный в регионе 1q21.3 и находящийся в неравновесии по сцеплению с нулевой мутацией в гене FLG, оказывает значимое влияние на развитие ПА, связанной с употреблением таких продуктов, как арахис, молоко и яйцо, причём независимо от наличия у пациента атопического дерматита [20]. Это указывает на то, что мутации в FLG вносят большой вклад в сенсибилизацию к различным аллергенам, способствуя развитию не только атопического дерматита, но и других аллергических заболеваний (в частности, является значимым фактором риска для развития ПА).
Ген HLA. Гены HLA кодируют семейства белков клеточной поверхности, которые функционируют как ключевые детерминанты распознавания антигена иммунной системой. Данная область связана с большим количеством как иммунных, инфекционных, так и аллергических заболеваний [34]. Ряд исследований показал высокую значимость генов HLA в развитии ПА [20]. Исследователи из Германии обнаружили, что локус HLA-DQB1, расположенный на хромосоме 6p21, вносит значимый вклад в развитие аллергии на арахис, а именно найдена связь с вариантом rs9273440 (p=6,6×10-7). Примечательно, что дети с аллергией на молоко и куриное яйцо не вносили вклад в данную ассоциацию, что свидетельствует о специфичности локуса HLA-DQB1 именно для аллергии на арахис [20].
В чикагском исследовании также установлена связь ПА на арахис с генами HLA-DQB1 (rs7192-T) и HLA-DQA2 (rs9275596-C) [16] вне зависимости от уровня специфического IgE к арахису. Однако полученные данные характерны только для европейской популяции: при исследовании вариантов rs7192 и rs9275596 у пациентов с ПА на арахис в популяции неевропейского происхождения ассоциаций не выявлено [16]. Не установлено доказательств связи данных SNP (rs7192 и rs9275596) с аллергией на яйцо и молоко [16].
В исследовании, основанном на анкетировании и включающем в анализ 11 379 человек азиатского происхождения, выявлена связь генов HLA-DR и HLA-DQ к специфичным для данного региона аллергенам, таким как персик и креветка [17]. Найдена значимая ассоциация варианта rs28359884 (HLA-DQA1, HLA-DRB5, HLA-DRB1) с употреблением персиков и варианта rs74995702 (HLA-DQA1, HLA-DRB5, HLA-DRB1, HLA-DQB1, HLA-DQA2, HLA-DRA) с употреблением креветок. Отмечается также, что данные SNP были номинально связаны у индивидов, имеющих аллергическую реакцию на яблоки и крабов [17].
Нельзя не отметить, что ряд исследований устанавливает связь генов HLA с аллергией на пищевые агенты, в состав которых входит глиадин: в частности, найдена связь полиморфного варианта rs3135350, расположенного в межгенном регионе (HLA-DRA/BTNL2) [18]. Значимые сигналы получены в локусе HLA-DPB1*02:01:02 (rs9277630) для IgE-опосредованной пищевой аллергии, вызванной физическими упражнениями, после употребления продуктов из пшеницы [21]. Этот полиморфизм может выступать потенциальным маркером анафилаксии, вызванной физической нагрузкой, на приём пшеницы.
Данные исследования в очередной раз подтверждают большое значение генов HLA в развитии аллергических заболеваний, в частности ПА, что, однако, не является узкоспецифичным.
Локус C11orf30/LRRC32. Регион C11orf30/LRRC32, расположенный на 11-й хромосоме, имеет важное значение в развитии аллергических заболеваний: в целом этот регион, по-видимому, детерминирует развитие атопического марша [35, 36]. Известно, что ген C11orf30 кодирует белок EMSY, который ассоциируется с атопией и предрасположенностью к полисенсибилизации [37, 38]. Ген LRRC32 кодирует одноимённый мембранный белок, содержащий лейцинбогатые повторы (белок LRRC32) [39].
Полногеномный анализ ассоциаций, проведённый в европейской популяции (Германия), показал, что в данном локусе нуклеотидная замена (rs2212434) ассоциирована с развитием ПА [20]. Полученные результаты свидетельствуют о том, что регион C11orf30/LRRC32 вносит свой вклад в развитие ПА вне зависимости от наличия атопического дерматита у индивида (см. табл. 1) [20]. Это указывает на возможность использования данного SNP как потенциального маркера ПА.
Ген SERPINB7. Ген SERPINB7 располагается на 18-й хромосоме и кодирует одноимённый белок, который является ингибитором серпиновой пептидазы класса В, типа 7 [40]. В этом локусе выявлены две нуклеотидные замены, связанные с ПА, одна из которых ― rs12964116 ― показала значительную связь с ПА в общем и с аллергией на арахис в частности [20]. Вариант rs12964116 является низкополиморфным во всех мировых популяциях [41]. Вторая нуклеотидная замена ― rs1243064 ― ассоциирована с аллергией на куриное яйцо [20] и, в отличие от rs12964116, наоборот, широко распространена как у европейцев, так и в других популяциях.
Помимо выраженного влияния на развитие аллергических заболеваний, полиморфный вариант rs12964116 ассоциирован с болезнями почек, онкологическими заболеваниями [42–46], а вариант rs1243064 существенно связан с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Характерные мутации гена SERPINB7 выявляются у пациентов с ладонно-подошвенной кератодермией (тип Нагашимы) [40]. Стоит отметить, что в отношении кератозов в литературе встречаются сведения об их коморбидности с аллергической патологией, в частности атопическим дерматитом [47].
Ген ZNF652. В ходе проведённого исследования в Китае, оценившего влияние аллергических заболеваний у родителей на развитие ПА у потомства, установлено, что rs4572450 и rs16948048, локализованные в регионе гена ZNF652, ассоциированы с развитием аллергических проявлений на куриное яйцо [19]. Интересно то, что наличие атопического дерматита у матерей связано с высоким риском развития ПА на яйца у их детей, при этом на арахис таких данных не показано [19]. Расположенный на 17-й хромосоме ген ZNF652 кодирует белок семейства «цинковых пальцев» 652. Оба ассоциированных с ПА варианта (rs4572450 и rs16948048) затрагивают сайты связывания транскрипционных факторов, являются функционально значимыми для разного спектра заболеваний. Ранее было выявлено, что rs16948048 также имеет связь с развитием дерматита как в европейской, так и в азиатской популяциях [48]. Помимо выявленной связи с ПА и дерматитом, оба полиморфных варианта связаны с болезнями кровеносной системы (артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца) [49–52]. Плейотропные ассоциации варианта rs4572450 имеют отношение к нарушениям функционирования нервной системы (болезнь Паркинсона), а также к болезням, связанным с метаболизмом (например, остеопороз) [53–56].
Гены ADGB и IQCE. Ген ADGB, кодирующий белок андроглобин, располагается на 6-й хромосоме, а IQCE кодирует белок IQ — область, содержащую в себе белок Е, который является частью белкового комплекса плазматической мембраны [19]. Исследовательской группой из Китая обнаружена также ассоциация от приёма в пищу арахиса в варианте rs4896888, расположенного в гене андроглобина. В гене IQCE была впервые обнаружена связь ПА с двумя полногеномными вариантами rs1036504 и rs2917750 [19]. Интересно то, что все три нуклеотидные замены встречались только у мальчиков. Оба гена (ADGB и IQCE) не являются известными импринтированными генами [19]. Ранее обнаружено, что варианты, локализованные в регионе этих генов, связаны с инфекционными заболеваниями: так, rs4896888 ассоциирован с проказой, а rs1036504 ― с вирусом иммунодефицита человека [57, 58]. Данных о связи с другими аллергическими заболеваниями ранее не обнаружено.
Ген SLC2A9. Ген SLC2A9 располагается на коротком плече 4-й хромосомы, кодирует белок GLUT9 ― облегчённый переносчик глюкозы 9. У человека GLUT9 имеет два варианта сплайсинга с разными паттернами экспрессии: GLUT9a экспрессируется во многих тканях, в то время как GLUT9b (также называемый GLUT9ΔN) экспрессируется преимущественно в почках и в меньшей степени в печени [59]. Базолатеральный GLUT9 является основным почечным транспортёром, участвующим в реабсорбции уратов [61]. В австралийской группе детей с подтверждённой IgE-опосредованной ПА впервые найдена связь с аллергией на арахис и вариантом rs10018666 гена SLC2A9 [23]. Однако эта ассоциация неспецифична в отношении ПА, поскольку в ряде исследований установлена связь варианта rs10018666 с развитием болезней мочевыделительной системы (гиперурикемия, нефролитиаз, подагра), сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда), а также другими болезнями, связанными с нарушениями метаболизма (сахарный диабет 2-го типа, ожирение) [60–71], что свидетельствует о выраженной плейотропии гена SLC2A9.
Ген ITGA6. Ген ITGA6 располагается на 2-й хромосоме, кодирует часть семейства белков альфа-цепи интегрина. Интегрины представляют собой гетеромерные интегральные мембранные белки, состоящие из альфа- и бета-цепей, которые участвуют в адгезии и передаче сигналов на клеточной поверхности [22]. В канадском полногеномном исследовании найдена ассоциация варианта rs115218289 с аллергией к арахису [22]. По данным литературы, ген ITGA6 имеет отношение к буллёзному эпидермолизу ― редкому наследственному заболеванию, характеризуемому тяжёлым поражением кожных покровов, а также слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта [72, 73].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стремительное развитие технологий персонализированной медицины диктует необходимость проведения популяционных исследований с применением подходов молекулярной эпидемиологии. В ходе анализа опубликованных результатов генетических исследований в когортах пациентов с пищевой аллергией методология полногеномного поиска ассоциаций использована в качестве информативного инструмента исследования генетической архитектуры многофакторных заболеваний. Несмотря на то, что в данный обзор включены разные по мощности и однородности исследования, это позволило систематизировать наборы локусов, генов и нуклеотидных последовательностей, ассоциированных с развитием ПА. Наиболее ценные результаты получены в масштабных многоцентровых исследованиях, включающих крупные биологические коллекции.
В ходе проведённого анализа литературы выявлено, что некоторые локусы связаны не только с развитием ПА, но и атопического дерматита, бронхиальной астмы, аллергического ринита. Для некоторых аллергенов идентифицированы специфические локусы, ассоциированные с частым развитием сенсибилизации к конкретному пищевому аллергену (так, локус HLA-DQB1 ассоциирован с развитием ПА к арахису).
Немаловажно, что во многих исследованиях изучен вопрос генетических особенностей, в том числе с учётом различий этнических групп в разных географических регионах, таких как Китай, США, страны Европы, при этом опубликованных молекулярно-эпидемиологических данных по связи ПА с различными генами в российской популяции не найдено. В этой связи особую актуальность приобретают масштабные эпидемиологические исследования риска развития ПА в российской популяции с использованием результатов полногеномных исследований для идентификации локусов, ассоциированных с данной патологией.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: У.В. Кутас ― обзор литературы, сбор и анализ литературных источников, подготовка и написание текста, О.С. Федорова ― формулирование концепции, анализ литературных источников, редактирование и написание текста, Е.Ю. Брагина ― анализ литературных источников, редактирование и написание текста.
ADDITIONAL INFORMATION
Funding source. This publication was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. U.V. Kutas ― literature review, collection and analysis of literary sources, preparation and writing of the text; O.S. Fedorova ― formulation of the concept, analysis of literary sources, editing and writing of the text; E.Yu. Bragina ― analysis of literary sources, editing and writing of the text.
Об авторах
Ульяна Вениаминовна Кутас
Сибирский государственный медицинский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: uliaka007@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3495-0832
SPIN-код: 3201-5750
Россия, Томск
Ольга Сергеевна Федорова
Сибирский государственный медицинский университет
Email: fedorova.os@ssmu.ru
ORCID iD: 0000-0002-7130-9609
SPIN-код: 5285-4593
Россия, Томск
Елена Юрьевна Брагина
Томский национальный исследовательский медицинский центр, Научно-исследовательский институт медицинской генетики
Email: elena.bragina72@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-1103-3073
SPIN-код: 8776-6006
Россия, Томск
Список литературы
- Muraro A., Werfel T., Hoffmann-Sommergruber K., et al. EAACI Food allergy and anaphylaxis guidelines: Diagnosis and management of food allergy // Allergy. 2014. Vol. 69, N 8. P. 1008–25. doi: 10.1111/all.12429
- Agache I., Akdis C.A., Chivato T., et al. EAACI white paper on research, innovation and quality care. 2019 [Accessed 2019 Febr 14]. Режим доступа: www.eaaci.org/resources/books/white-paper.html. Дата обращения: 15.01.2022.
- Gupta R.S., Warren C.M., Smith B.M., et al. The public health impact of parent-reported childhood food allergies in the United States // Pediatrics. 2018. Vol. 142, N 6. P. e20181235. doi: 10.1542/peds.2018-1235
- Федорова О.С. Распространенность пищевой аллергии у детей в мировом очаге описторхоза // Бюллетень сибирской медицины. 2010. Т. 9, № 5. С. 102–107. doi: 10.20538/1682-0363-2010-5-102-107
- Renz H., Allen K.J., Sicherer S.H., et al. Food allergy // Nature Rev Disease Primers. 2018. Vol. 4, N 1. P. 1–20. doi: 10.1038/nrdp.2017.98
- Sicherer S.H., Sampson H.A. Food allergy: A review and update on epidemiology, pathogenesis, diagnosis, prevention, and management // J Allergy Clin Immunol. 2018. Vol. 141, N 1. P. 41–58. doi: 10.1016/j.jaci.2017.11.003
- Wahn U. What drives the allergic march? // Allergy. 2000. Vol. 55, N 7. P. 591–599. doi: 10.1034/j.1398-9995.2000.00111.x
- Li J., Ogorodova L.M., Mahesh P.A., et al. Comparative study of food allergies in children from China, India, and Russia: the EuroPrevall-INCO surveys // J Allergy Clin Immunol Pract. 2020. Vol. 8, N 4. P. 1349–1358.e16. doi: 10.1016/j.jaip.2019.11.042
- Paul J.T., Gowland M.H., Sharma V., et al. Increase in anaphylaxis-related hospitalizations but no increase in fatalities: an analysis of United Kingdom national anaphylaxis data, 1992–2012 // J Allergy Clin Immunol. 2015. Vol. 135, N 4. P. 956–963.e1. doi: 10.1016/j.jaci.2014.10.021
- Wood R., Camargo C., Lieberman P., et al. Anaphylaxis in America: the prevalence and characteristics of anaphylaxis in the United States // J Allergy Clin Immunol. 2014. Vol. 133, N 2. P. 461–467. doi: 10.1016/j.jaci.2013.08.016
- Simons F.E., Ebisawa M., Sanchez-Borges M., et al. 2015 update of the evidence base: World Allergy Organization anaphylaxis guidelines // World Allergy Organ J. 2015. Vol. 8, N 1. P. 32. doi: 10.1186/s40413-015-0080-1
- Tham E.H., Leung D.Y. Mechanisms by which atopic dermatitis predisposes to food allergy and the atopic march // Allergy Asthma Immunol Res. 2019. Vol. 11, N 1. P. 4–15. doi: 10.4168/aair.2019.11.1.4
- Sicherer S.H., Furlong T.J., Maeset H.H., et al. Genetics of peanut allergy: A twin study // J Allergy Clin Immunol. 2000. Vol. 106, N 1, Pt 1. Р. 53–56. doi: 10.1067/mai.2000.108105
- Spergel J.M., Beausoleil J.L., Pawlowski N.A. Resolution of childhood peanut allergy // Annals Allergy Asthma Immunol. 2000. Vol. 85, N 6, Pt 1. P. 473–476. doi: 10.1016/S1081-1206(10)62574-4
- Kanchan K., Clay S., Irizar H., et al. Current insights into the genetics of food allergy // Am Acad Allergy Asthma Immunol. 2021. Vol. 147, N 1. P. 15–28. doi: 10.1016/j.jaci.2020.10.039
- Hong X., Hao K., Ladd-Acosta C., et al. Genome-wide association study identifies peanut allergy-specific loci and evidence of epigenetic mediation in US children // Nature Communications. 2015. N 6. P. 6304. doi: 10.1038/ncomms7304
- Khor S., Hao K., Ladd-Acosta C., et al. Genome-wide association study of self-reported food reactions in Japanese identifies shrimp and peach specific loci in the HLA-DR/DQ gene region // Sci Reports. 2017. Vol. 8, N 1. P. 1069. doi: 10.1038/s41598-017-18241-w
- Rubicz R., Yolken R., Alaedini A., et al. Genome-Wide genetic and transcriptomic investigation of variation in antibody response to dietary antigens // Genetic Epidemiol. 2014. Vol. 38, N 5. P. 439–446. doi: 10.1002/gepi.21817
- Liu X., Hong X., Tsai H.J., et al. Genome-wide association study of maternal genetic effects and parent-of-origin effects on food allergy // Medicine. 2018. Vol. 97, N 9. P. e0043. doi: 10.1097/MD.0000000000010043
- Marenholz I., Grosche S., Kalb B., et al. Genome-wide association study identifies the SERPINB gene cluster as a susceptibility locus for food allergy // Nature Communications. 2017. Vol. 8, N 1. P. 1056. doi: 10.1038/s41467-017-01220-0
- Fukunaga K., Chinuki Y., Hamada Y., et al, Genome-wide association study reveals an association between the HLA-DPB1*02:01:02 allele and wheat-dependent exercise-induced anaphylaxis // Am J Human Genetics. 2021. Vol. 108, N 8. P. 1540–1548. doi: 10.1016/j.ajhg.2021.06.017
- Asai Y., Eslami A., Ginkel C.D., et al. Genome-wide association study and meta-analysis in multiple populations identifies new loci for peanut allergy and establishes c11orf30/EMSY as a genetic risk factor for food allergy // J Allergy Clin Immunol. 2017. Vol. 141, N 3. P. 991–1001. doi: 10.1016/j.jaci.2017.09.015
- Martino D.J., Ashley S., Koplin J., et al. Genome-wide association study of peanut allergy reproduces association with amino acid polymorphisms in HLA-DRB1 // Clin Exp Allergy. 2016. Vol. 47, N 2. P. 217–223. doi: 10.1111/cea.12863
- Ozaki K., Ohnishi Y., Iida A., et al. Functional SNPs in the lymphotoxin-alpha gene that are associated with susceptibility to myocardial infarction // Nature Genetics. 2002. Vol. 32, N 4. P. 650–654. doi: 10.1038/ng1047
- Klein R.J., Zeiss C., Chew E.Y., et al. Complement factor H polymorphism in age-related macular degeneration // Science. 2005. Vol. 308, N 5720. P. 385–389. doi: 10.1126/science.1109557
- Duerr R.H., Taylor K.D., Brant S.R., et al. A genome-wide association study identifies IL23R as an inflammatory bowel disease gene // Science. 2006. Vol. 314, N 5804. P. 1461–1463. doi: 10.1126/science.1135245
- Lacher M., Schroepf S., Helmbrecht J., et al. Association of the interleukin-23 receptor gene variant rs11209026 with Crohn’s disease in German children // Asta paediatrica. 2010. Vol. 99, N 5. P. 727–733. doi: 10.1111/j.1651-2227.2009.01680.x
- Zhu Z., Lee P.H., Chaffin M.D., et al. A genome-wide cross-trait analysis from UK Biobank highlights the shared genetic architecture of asthma and allergic diseases // Nature Genetics. 2018. Vol. 50, N 6. P. 857–864. doi: 10.1038/s41588-018-0121-0
- Melen E., Granell R., Kogevinas M., et al. Genome-wide association study of body mass index in 23 000 individuals with and without asthma // Clin Exp Allergy. 2013. Vol. 43, N 4. P. 463–74. doi: 10.1111/cea.12054
- Sandilands A., Sutherland C., Irvine A.D., et al., Filaggrin in the frontline: role in skin barrier function and disease // J Cell Sci. 2009. Vol. 122, N 9. P. 1285–1294. doi: 10.1242/jcs.033969
- Drislane C., Irvine A.D. The role of filaggrin in atopic dermatitis and allergic disease // Ann Allergy Asthma Immunol. 2020. Vol. 124, N 1. P. 36–43. doi: 10.1016/j.anai.2019.10.008
- Baurecht H., Irvine A.D., Novaket N., et al. Toward a major risk factor for atopic eczema: Meta-analysis of filaggrin polymorphism data // J Allergy Clin Immunol. 2007. Vol. 120, N 6. P. 1406–1412. doi: 10.1016/j.jaci.2007.08.067
- Brown S.J., Asai Y., Cordell H.J., et al. Loss-of-function variants in the filaggrin gene are a significant risk factor for peanut allergy // J Allergy Clin Immunol. 2011. Vol. 127, N 3. P. 661–667. doi: 10.1016/j.jaci.2011.01.031
- MacArthur J., Bowler E., Cerezo M., et al. The new NHGRI-EBI Catalog of published genome-wide association studies (GWAS Catalog) // Nucleic Acids Res. 2017. Vol. 45. P. 896–901. doi: 10.1093/nar/gkw1133
- Chen J., Chen Q., Wu C., et al. Genetic variants of the C11orf30-LRRC32 region are associated with childhood asthma in the Chinese population // Allergologia Immunopathol. 2020. Vol. 48, N 4. P. 390–394. doi: 10.1016/j.aller.2019.09.002
- Manz J. Regulatory mechanisms underlying atopic dermatitis: Functional characterization of the C11orf30/LRRC32 locus and analysis of genome-wide expression profiles in patients: dissertation. Neuherberg: Technical University of Munich, 2017.
- Hughes-Davies L., Huntsman D., Ruas M., et al. EMSY links the BRCA2 pathway to sporadic breast and ovarian cancer // Cell. 2003. Vol. 115, N 5. P. 523–535. doi: 10.1016/s0092-8674(03)00930-9
- Greisenegger E.K., Zimprich F., Zimprich A., et al. Association of the chromosome 11q13.5 variant with atopic dermatitis in Austrian patients // Eur J Dermatol. 2013. Vol. 23, N 2. P. 142–145. doi: 10.1684/ejd.2013.1955
- Ollendorff V., Szepetowski P., Mattei M.G., et al. New gene in the homologous human 11q13-q14 and mouse 7F chromosomal regions // Mamm Genome. 1992. Vol. 2, N 3. P. 195–200. doi: 10.1007/BF00302877
- Kubo A., Shiohama A., Sasaki T., et al. Mutations in SERPINB7, encoding a member of the serine protease inhibitor superfamily, cause Nagashima-type palmoplantar keratosis // Am J Human Genetics. 2013. Vol. 93, N 5. P. 945–956. doi: 10.1016/j.ajhg.2013.09.015
- Karczewski K.J., Francioli L.C., Tiao G., et al. The mutational constraint spectrum quantified from variation in 141,456 humans // Nature. 2020. Vol. 581, N 7809. P. 434–443. doi: 10.1038/s41586-020-2308-7
- Johnatty S.E., Beesley J., Chen X., et al. Evaluation of candidate stromal epithelial cross-talk genes identifies association between risk of serous ovarian cancer and TERT, a cancer susceptibility “hot-spot” // PLOS Genetics. 2010. Vol. 6, N 7. P. e1001016. doi: 10.1371/journal.pgen.1001016.
- Xia Y., Li Y., Du Y., et al. Association of MEGSIN 2093C-2180T haplotype at the 3’ untranslated region with disease severity and progression of IgA nephropathy // Nephrology Dialysis Transplantation. 2006. Vol. 21, N 6. P. 1570–1574. doi: 10.1093/ndt/gfk096
- Xia Y.F., Huang S., Li X., et al. A family-based association study of megsin A23167G polymorphism with susceptibility and progression of IgA nephropathy in a Chinese population // Clin Nephrol. 2006. Vol. 65, N 3. P. 153–159. doi: 10.5414/cnp65153
- Lim C.S., Kim S.M., Oh Y.K., et al. Megsin 2093T-2180C haplotype at the 3’ untranslated region is associated with poor renal survival in Korean IgA nephropathy patients // Clin Nephrol. 2008. Vol. 70, N 2. P. 101–109. doi: 10.5414/cnp70101
- Maixnerova D., Merta M., Reiterova J., et al. The influence of two megsin polymorphisms on the progression of IgA nephropathy // Folia Biologica. 2008. Vol. 54, N 2. P. 40–45.
- Fenner J., Silverberg N.B. Skin diseases associated with atopic dermatitis // Clin Dermatol. 2018. Vol. 36, N 5. P. 631–640. doi: 10.1016/j.clindermatol.2018.05.004
- Ellinghaus D., Baurecht H., Esparza-Gordillo J., et al. High-density genotyping study identifies four new susceptibility loci for atopic dermatitis // Nature Genetics. 2013. Vol. 45, N 7. P. 808–812. doi: 10.1038/ng.2642
- Newton-Cheh C., Johnson T., Gateva V., et al. Genome-wide association study identifies eight loci associated with blood pressure // Nature Genetics. 2009. Vol. 41, N 6. P. 666–676. doi: 10.1038/ng.361
- Niu W., Zhang Y., Ji K., et al. Confirmation of top polymorphisms in hypertension genome wide association study among Han Chinese // Clin Chimica Acta. 2010. Vol. 411, N 19-20. P. 1491–1495. doi: 10.1016/j.cca.2010.06.004
- Hong K.W., Jin H.S., Lim J.E., et al. Recapitulation of two genomewide association studies on blood pressure and essential hypertension in the Korean population // J Human Genetics. 2010. Vol. 55, N 6. P. 336–341. doi: 10.1038/jhg.2010.31
- Wain L.V., Verwoert G.C., O’Reilly P.F., et al. Genome-wide association study identifies six new loci influencing pulse pressure and mean arterial pressure // Nature Genetics. 2011. Vol. 43, N 10. P. 1005–1011. doi: 10.1038/ng.922
- Rivadeneira F., Styrkársdottir U., Estrada K., et al. Twenty bone-mineral-density loci identified by large-scale meta-analysis of genome-wide association studies // Nature Genetics. 2009. Vol. 41, N 11. P. 1199–206. doi: 10.1038/ng.446
- Do C.B., Tung J.Y., Dorfman E., et al. Web-based genome-wide association study identifies two novel loci and a substantial genetic component for Parkinson’s disease // PLOS Genetics. 2011. Vol. 7, N 6. P. e1002141. doi: 10.1371/journal.pgen.1002141
- Kiel D.P., Demissie S., Dupuis J., et al. Genome-wide association with bone mass and geometry in the Framingham Heart Study // BMC Med Genetics. 2007. Vol. 8, Suppl. 1. P. S14. doi: 10.1186/1471-2350-8-S1-S14
- Schunkert H., König I.R., Kathiresan S., et al. Large-scale association analysis identifies 13 new susceptibility loci for coronary artery disease // Nature Genetics. 2011. Vol. 43, N 4. P. 333–338. doi: 10.1038/ng.784
- Zhang F., Liu H., Chen S., et al. Identification of two new loci at IL23R and RAB32 that influence susceptibility to leprosy // Nature Genetics. 2011. Vol. 43, N 12. P. 1247–1251. doi: 10.1038/ng.973
- Hendrickson S.L., Lautenberger J.A., Chinn L.W., et al. Genetic variants in nuclear-encoded mitochondrial genes influence AIDS progression // PLoS One. 2010. Vol. 5, N 9. P. e12862. doi: 10.1371/journal.pone.0012862
- Augustin R., Carayannopoulos M.O., Dowd L.O., et al. Identification and characterization of human glucose transporter-like protein-9 (GLUT9): Alternative splicing alters trafficking // J Biological Chemistry. 2004. Vol. 279, N 16. P. 16229–16236. doi: 10.1074/jbc.M312226200
- Bobulescu I.A., Moe O.W. Renal transport of uric acid: Evolving concepts and uncertainties // Adv Chronic Kidney Dis. 2012. Vol. 19, N 6. P. 358–371. doi: 10.1053/j.ackd.2012.07.009
- Tabara Y., Kohara K., Kawamoto R., et al. Association of four genetic loci with uric acid levels and reduced renal function: The J-SHIPP Suita study // Am J Nephrol. 2010. Vol. 32, N 3. P. 279–286. doi: 10.1159/000318943
- Polasek O., Gunjaca G., Kolcic I., et al. Association of nephrolithiasis and gene for glucose transporter type 9 (SLC2A9): study of 145 patients // Croatian Med J. 2010. Vol. 51, N 1. P. 48–53. doi: 10.3325/cmj.2010.51.48
- Brandstätter A., Lamina C., Kiechl S., et al. Sex and age interaction with genetic association of atherogenic uric acid concentrations // Atherosclerosis. 2010. Vol. 210, N 2. P. 474–478. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2009.12.013
- Li C., Han L., Levin A.M., et al. Multiple single nucleotide polymorphisms in the human urate transporter 1 (hURAT1) gene are associated with hyperuricaemia in Han Chinese // J Med Genetics. 2010. Vol. 47, N 3. P. 204–210. doi: 10.1136/jmg.2009.068619
- Dehghan A., Köttgen A., Yang Q., et al. Association of three genetic loci with uric acid concentration and risk of gout: A genome-wide association study // Multicenter Study. 2008. Vol. 372, N 9654. P. 1953–1961. doi: 10.1016/S0140-6736(08)61343-4
- Brandstätter A., Kiechl S., Kollerits B., et al. Sex-specific association of the putative fructose transporter SLC2A9 variants with uric acid levels is modified by BMI // Diabetes Care. 2008. Vol. 31, N 8. P. 1662–1667. doi: 10.2337/dc08-0349
- Stark K., Reinhard W., Neureuther K., et al. Association of common polymorphisms in GLUT9 gene with gout but not with coronary artery disease in a large case-control study // PLoS One. 2008. Vol. 3, N 4. P. e1948. doi: 10.1371/journal.pone.0001948
- Wallace C., Newhouse S.J., Braund P., et al. Genome-wide association study identifies genes for biomarkers of cardiovascular disease: serum urate and dyslipidemia // Am J Human Genetics. 2008. Vol. 82, N 1. P. 139–149. doi: 10.1016/j.ajhg.2007.11.001
- Kolz M., Johnson T., Sanna S., et al. Meta-analysis of 28,141 individuals identifies common variants within five new loci that influence uric acid concentrations // PLoS Genet. 2009. Vol. 5, N 6. P. e1000504. doi: 10.1371/journal.pgen.1000504
- Li S., Sanna S., Maschio A., et al. The GLUT9 gene is associated with serum uric acid levels in sardinia and chianti cohorts // PLoS Genet. 2007. Vol. 3, N 11. P. e194. doi: 10.1371/journal.pgen.0030194.
- Suhre K., Shin S.Y., Petersen A.K., et al. Human metabolic individuality in biomedical and pharmaceutical research // Nature. 2011. Vol. 477, N 7362. P. 54–60. doi: 10.1038/nature10354
- Fine J.D., Bruckner-Tuderman L., Eady R.A., et al. Inherited epidermolysis bullosa: updated recommendations on diagnosis and classification // J American Academy Dermatol. 2014. Vol. 70, N 6. P. 1103–1126. doi: 10.1016/j.jaad.2014.01.903
- Chung H.J., Uitto J. Epidermolysis bullosa with pyloric atresia // Dermatol Clin. 2010. Vol. 28, N 1. P. 43–54. doi: 10.1016/j.det.2009.10.005
Дополнительные файлы