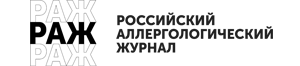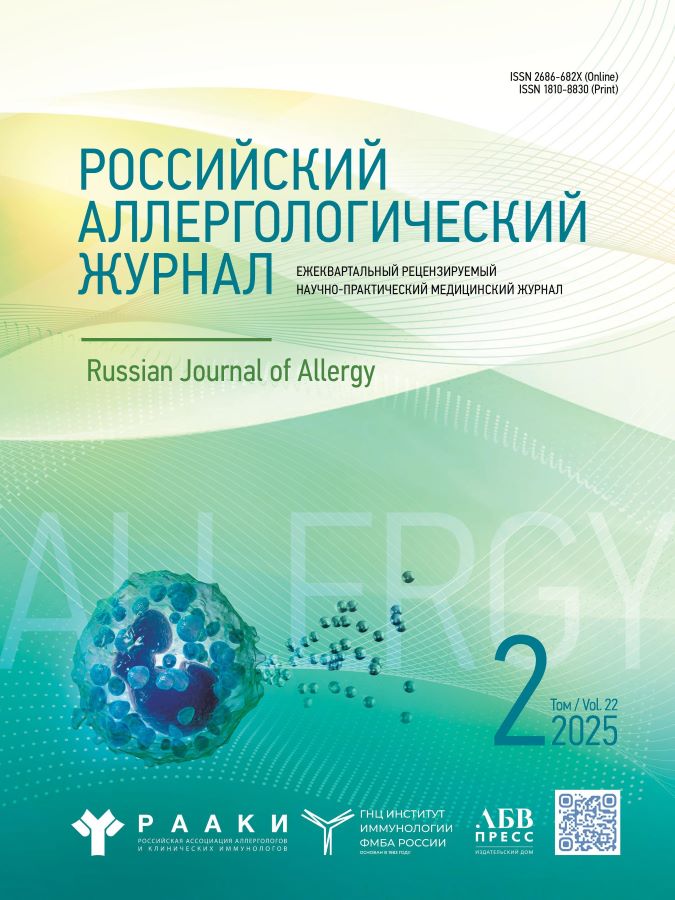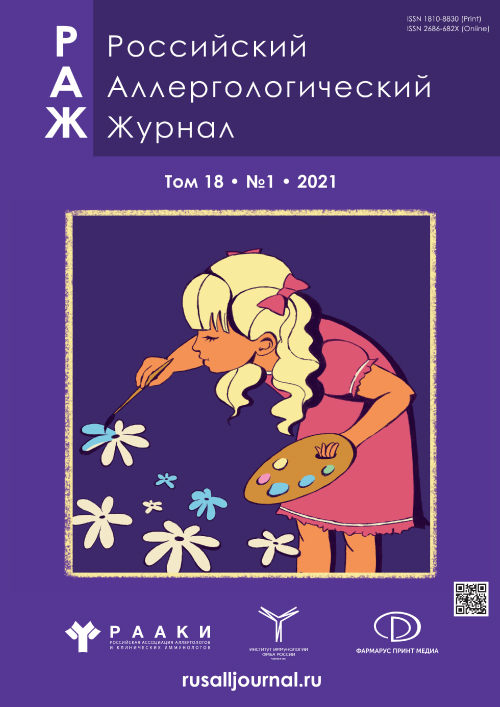Хроническая крапивница в теории и практике. Опыт UCARE-центров ― практическим врачам
- Авторы: Ильина Н.И.1, Данилычева И.В.1, Дорофеева И.В.1, Елисютина О.Г.1, Курбачева О.М.1, Латышева Е.А.1, Литвин Л.С.2, Манто И.А.1, Назарова Е.В.1, Павлова К.С.1, Примак А.С.1, Феденко Е.С.1, Щубелко Р.В.1
-
Учреждения:
- Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
- ООО «Новартис Фарма»
- Выпуск: Том 18, № 1 (2021)
- Страницы: 79-96
- Раздел: Письма в редакцию
- Дата подачи: 05.03.2021
- Дата принятия к публикации: 10.03.2021
- Дата публикации: 15.03.2021
- URL: https://rusalljournal.ru/raj/article/view/1425
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA1425
- ID: 1425
Цитировать
Аннотация
Хроническая крапивница (ХК) ― актуальная медико-социальная проблема. Инструментами повседневной клинической практики являются международные и отечественные согласительные документы, кратко отражающие современные представления о разных аспектах ХК. В настоящее время расширение теоретического и практического опыта по ведению пациентов с ХК, осуществление образовательной деятельности по распространению современных знаний о крапивнице, проведение научных исследований патогенеза, лечения, профилактики обострений заболевания реализуются с помощью центров передового опыта по работе с такими пациентами (GA2LEN UCARE centers). В одном из пяти российских центров, организованном в ФГБУ «ГНЦ “Институт иммунологии”» ФМБА России, была подготовлена и выполнена в ноябре 2020 года онлайн обучающая научно-практическая программа для врачей «Хроническая крапивница: научно-медицинские достижения и практические аспекты ведения пациентов».
Ключевые слова
Полный текст
Список сокращений:
ГКС ― глюкокортикостероид
нсН1-АГП ― неседативные антигистаминные препараты
ХК ― хроническая крапивница
ХСК ― хроническая спонтанная крапивница
CU-Q2oL (Chronic Urticaria Quality of Life Questionnaire) ― опросник по оценке качества жизни пациентов с хронической крапивницей
DLQI (Dermatology Life Quality Index) ― дерматологический индекс качества жизни
GA2LEN (Global Allergy and Asthma European Network) ― Глобальная европейская сеть по аллергии и астме
GA2LEN UCARE Centers (GA2LEN urticaria centers) ― центры передового опыта по крапивнице под эгидой GA2LEN
UAS7 (Urticaria Activity Score 7) ― индекс активности крапивницы
UCT (Urticaria Control Test) ― тест контроля крапивницы
Актуальность
Хроническая крапивница (ХК) является одной из актуальных медико-социальных проблем в связи с широкой распространённостью, интенсивным ростом заболеваемости, часто встречающейся резистентностью к традиционным методам терапии, отрицательным влиянием на качество жизни, финансовой нагрузкой на систему здравоохранения и пациентов. Распространённость ХК в популяции колеблется от 0,1 до 1,5%, причём страдают преимущественно лица трудоспособного возраста [1, 2]. Длительное и упорное течение болезни, выраженный зуд, косметические проблемы приводят к утрате трудоспособности и снижению качества жизни больных ХК.
Центры передового опыта по крапивнице (GA²LEN UCARE centers)
В последнее десятилетие предприняты попытки унифицированного подхода к диагностике и ведению ХК на основе принципов доказательной медицины. Инструментами повседневной клинической практики являются международные и отечественные согласительные документы, кратко отражающие современные представления о разных аспектах ХК [3, 4]. Недавно появилась новая возможность расширения теоретического и практического опыта по ведению пациентов с ХК, что реализуется в центрах передового опыта по работе с такими больными (GA2LEN UCARE centers) [5]. Подобные центры уже функционируют для пациентов с другими заболеваниями.
Цель работы референсных центров по крапивнице ― проведение научных исследований патогенеза, лечения, профилактики обострений заболевания, а также образовательная деятельность для расширения современных знаний о крапивнице. Сеть центров передового опыта по крапивнице ― первый опыт Глобальной европейской сети по аллергии и астме (Global Allergy and Asthma European Network, GA2LEN) в аккредитации, продвижении и взаимодействии учреждений. На сегодняшний день сертифицировано около ста GA2LEN UCARE-центров по всему миру1. Их создание требует выполнения ряда условий, в частности инфраструктура лечебного учреждения должна включать стационар и поликлинику с выделенным временем для приёма пациентов с крапивницей (детей и взрослых); иметь в наличии специалистов в области крапивницы во главе с экспертом. Команда центра должна придерживаться принципов междисциплинарного подхода к пациентам (наличие специалистов разного профиля в лечебном учреждении приветствуется), ответственного отношения к документации, архивированию данных пациентов, соблюдению действующих протоколов диагностики и лечения крапивницы. Врачи центра в своей каждодневной работе обязаны знать и использовать текущую номенклатуру и классификацию крапивницы, знать и использовать современный терапевтический алгоритм; в их задачи входит сбор анамнеза, проведение дифференциальной диагностики, стандартизированных оценок и мониторинга активности и контроля болезни, выявление сопутствующих заболеваний, выполнение провокационного и порогового тестирования у пациентов с индуцированной крапивницей. Команда центра должна быть вовлечена в распространение знаний о крапивнице как среди коллег, так и среди пациентов. Хороший пример просветительской деятельности сотрудников UCARE центров и одновременно знак внимания к своим пациентам ― организация ежегодного Дня крапивницы2. Форма мероприятия ― разнообразная (виртуальные встречи пациентов с врачами, образовательные вебинары, кампании в социальных сетях и т.п.), но суть его заключается в «знакомстве» пациентов и их близких с заболеванием, механизмами его развития, прогнозами, диагностическими и лечебными возможностями. Пациентам важно понимать, что они не остаются один на один со своей болезнью. В рамках данного мероприятия 1 октября 2020 г. в ФГБУ «ГНЦ «Институт иммунологии»» ФМБА России (далее Институт иммунологии) при активном участии команды референсного центра крапивницы Института иммунологии подготовлена и проведена в онлайн-формате образовательная программа, посвящённая Дню крапивницы (рис. 1, 2).
Другим необходимым элементом деятельности центра является его научная работа. По последним данным, референсные центры по крапивнице вовлечены более чем в 12 международных научных проектов, которые находятся на разных стадиях реализации3, а некоторые из них, такие как UVERSI-CU (крапивница и уртикарный васкулит), CURICT (использование информационных и коммуникационных технологий в медицинских целях в ведении пациентов с хронической крапивницей), PREG-CU (беременность и хроническая крапивница), уже закончены.
Проект PREG-CU (Pregnancy and Chronic Urticaria: characteristics and outcomes of pregnancy in chronic urticaria patients ― беременность и хроническая крапивница: характеристика и исходы беременности у пациенток с хронической крапивницей) ― проспективное международное многоцентровое наблюдательное исследование, проведённое при участии 27 UCARE-центров, в рамках реализации которого путём анкетирования (вопросник из 47 пунктов) было проанализировано течение беременности у 288 пациенток из 13 стран, в том числе из России, страдающих ХК (хроническая спонтанная крапивница, хроническая индуцируемая крапивница и сочетание этих подтипов). Результаты доложены на глобальном форуме по крапивнице (GUF2020) [6].
Рис. 1. Информация для пациентов с крапивницей о предстоящем образовательном мероприятии, посвящённом Международному дню крапивницы.
Fig.1. Information for patients with urticaria about the upcoming International Urticaria Day educational event.
Рис. 2. Информационное сообщение о Международном дне крапивницы (https://urticariaday.org/urticaria-day-2020/urticaria/).
Fig. 2. International Urticaria Day Announcement. (https://urticariaday.org/urticaria-day-2020/urticaria/).
Масштабный действующий проект CURE (The global Chronic Urticaria REgistry ― международный регистр пациентов с хронической крапивницей) ― проспективное международное многоцентровое наблюдательное исследование, проводимое с целью лучшего понимания течения ХК у детей и взрослых, оценки терапевтических подходов, применяемых врачами в условиях реальной клинической практики, их эффективности и безопасности для последующего планирования рационального медицинского обслуживания пациентов с данным заболеванием. Регистр направлен на сбор как первичных данных о пациентах с ХК, так и в динамике. Участие в регистре осуществляется на добровольной основе. По состоянию на 26 февраля 2020 г. 39 центров GA2LEN UCARE по всему миру присоединились к регистру, 35 из них ввели исходные данные о 2946 пациентах. Со стороны российских центров в регистр внесены данные о 461 пациенте с ХК [7].
Таким образом, круг взаимодействия членов команд GA2LEN UCARE-центров расширяется до планетарного масштаба. Подобная совместная работа ведёт к личному росту каждого члена команды и увеличению знаний о разных аспектах крапивницы.
Нельзя не отметить тесную связь российских центров передового опыта по крапивнице. В России на сегодняшний день активно работают 5 сертифицированных центров: два ― в Москве (на базе Института иммунологии и ГБУЗ «Городская клиническая больница № 52 Департамента здравоохранения города Москвы»); по одному в Смоленске (на базе Городской клинической больницы № 1, кафедра аллергологии и иммунологии ФГБОУ ВО «Смоленский государственный медицинский университет» Минздрава России), Челябинске (на базе ГБУЗ «Челябинский областной клинический кожно-венерологический диспансер») и Казани (на базе Республиканского центра клинической иммунологии Республиканской клинической больницы, кафедра клинической иммунологии с аллергологией ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России). Для того чтобы ваше лечебное учреждение стало центром передового опыта по крапивнице, можно обратиться в любой из действующих российских центров за консультацией/информацией или на сайт www.ga2len-ucare.com.
Программа для врачей «Хроническая крапивница: научно-медицинские достижения и практические аспекты ведения пациентов»
Одной из важнейших задач UCARE-центров остаётся распространение знаний о крапивнице, современных методах обследования, терапии, включая перспективные научные направления. Существует множество форм обучающих программ ― очных, заочных, посвящённых одному или нескольким аспектам проблемы. Специалистами нашего центра подготовлена и в ноябре 2020 г. проведена обучающая онлайн-программа для врачей: «Хроническая крапивница: научно-медицинские достижения и практические аспекты ведения пациентов» (спонсор ООО «Новартис Фарма»).
Накануне мероприятия все участники имели возможность ознакомиться с видеолекциями, посвящёнными эпидемиологии ХК, причинам и триггерам ХК, методам обследования пациентов, аспектам дифференциальной диагностики хронической крапивницы, современным теориям патогенеза хронической крапивницы (к.м.н. И.В. Данилычева, д.м.н. Е.А. Латышева, к.м.н. Е.В. Назарова, д.м.н. О.Г. Елисютина). Профессор Н.И. Ильина открыла первый день обучения, рассказав о ключевых актуальных проблемах врача и пациента с ХК, о целях и плане мероприятия, подчеркнув научно-практическую направленность онлайн-встречи. В двухдневной программе было предусмотрено и реализовано виртуальное знакомство с клиникой Института иммунологии, рассматривались вопросы маршрутизации пациентов с ХК в учреждении, проведён обмен опытом работы и организации UCARE-центра, функционирующего на базе учреждения.
Крапивница: определение понятия, классификация
Крапивница ― группа заболеваний, характеризующаяся развитием зудящих волдырей и/или ангиоотёков [8]. Распространённость крапивницы в популяции ― 15–25%, при этом у 1/4 выявляется хроническая форма заболевания [9, 10], т.е. с сохранением симптомов (зудящих волдырей и/или ангиоотёков) более 6 нед. Выявляются региональные, гендерные, возрастные различия в распространённости заболевания: так, азиатские исследования показали более высокую частоту случаев ХК (1,4%), чем в Европе (0,5%) и США (0,1%).
У женщин ХК встречалась несколько чаще, чем у мужчин, тогда как среди детей до 15 лет гендерных различий в распространённости не обнаружено ― 1,0 и 1,1% у девочек и мальчиков соответственно. В четырёх исследованиях по изучению временных трендов показан рост распространённости ХК с течением времени [1].
Представляют определённый интерес клинические фенотипы ХК ― хроническая спонтанная (ХСК) и хроническая индуцированная крапивница, которые могут сопровождаться ангиоотёками или протекать без них. Иногда у пациентов с ХК развиваются изолированные ангиоотёки без волдырей. Любой вариант индуцированной крапивницы (аквагенная, холодовая, замедленная от давления, дермографическая, тепловая, солнечная, вибрационная, холинергическая, контактная) характеризуется наличием специфического триггера. При ХСК специфический триггер отсутствует, но можно выявить коморбидные заболевания и состояния, указывающие на вероятный патомеханизм. ХСК является наиболее частым клиническим фенотипом хронической крапивницы (встречается у 2 из 3 пациентов с ХК) [8]. По данным M. Maurer и соавт., распространённость ХСК в популяции составляет 0,5–1% [11].
Патогенез: одна из видеолекций, предложенных к предварительному просмотру слушателям образовательной программы, была посвящена современным представлениям о патогенезе ХК. Как известно, главную роль в развитии крапивницы играют тучные клетки. Активированные тучные клетки выделяют целый ряд преформированных медиаторов (гистамин, фактор некроза опухоли и протеазы), а также синтезированных de novo липидных медиаторов, цитокинов и хемокинов. Медиаторы вызывают вазодилатацию, повышение проницаемости сосудов, выход жидкой части плазмы в окружающие ткани, индуцируют миграцию клеток и активируют чувствительные нервные волокна. Сигналы, активирующие тучные клетки, ― разнообразные, реализующие своё действие через целый ряд рецепторов, расположенных на их поверхности.
На сегодняшний день у пациентов с ХСК хорошо изучены два механизма патологической активации тучных клеток и базофилов, опосредуемые через высокоаффинные рецепторы к иммуноглобулину Е (FcεRI) (рис. 3) [12].
Механизм аутоаллергии (аутоиммунитет I типа, или аутоиммунная реакция I типа) в активации тучных клеток и базофилов нашёл подтверждение в целом ряде исследований за последние 5 лет. У пациентов с ХСК определены ауто-IgE-антитела более чем к 200 аутоаллергенам (например, тиреопероксидазе, интерлейкину 24, тиреоглобулину, двухспиральной (нативной) ДНК, тканевому фактору и др.) [13–16]. Ауто-IgE-антитела у пациентов с ХСК являются функциональными. Сшивание FcεRI через ауто-IgE-антитела, связавшие аутоаллерген, приводит к дегрануляции тучных клеток/базофилов [17]. Показано, что IgE-антитиреопероксидаза-антитела часто выявляются у пациентов с ХСК и имеют выраженную способность индуцировать опосредованные тиреопероксидазой кожные реакции у пациентов с ХСК в сравнении с практически здоровыми лицами. Показано, что IgE-антитела к тиреопероксидазе часто выявляются у пациентов с ХСК и играют важную роль в активации эффекторных клеток и обострении крапивницы [18].
Рис. 3. Изученные механизмы активации тучной клетки и базофила при хронической спонтанной крапивнице (адаптировано из [12]).
Fig. 3. Studied mechanisms of mast cell and basophil activation in CSU (adapted from [12]).
В исследованиях P. Staubach и соавт. [19] и S. Altrichter и соавт. [20] установлено, что у пациентов с ХСК повышен уровень общего IgE в сравнении со здоровыми.
Механизм аутоиммунной реакции IIb типа (аутоиммунитет IIb типа) в активации тучных клеток у пациентов с ХСК изучен достаточно хорошо. Гипотеза была выдвинута около 30 лет назад. Подтверждение теории базировалось на выявлении как циркулирующих и функционально активных аутоантител класса G (IgG), направленных против FcɛRI, так и связанных с мембраной тучных клеток антител класса E (IgE). Данный механизм выявляется примерно у 30% пациентов с ХСК [9, 21]. Косвенным доказательством этого механизма является наличие сопутствующей аутоиммунной патологии и положительной внутрикожной пробы с аутосывороткой [13, 22, 23].
Патологическая активация тучных клеток при ХСК может быть связана также с «дефектами» внутриклеточных сигнальных путей, что может приводить к спонтанной дегрануляции тучных клеток/базофилов с последующим высвобождением гистамина и других белковых и липидных медиаторов. В настоящее время активно изучается целый ряд других механизмов: например, механизм, реализуемый через рецептор MRGPRX2 [12, 17].
Последнее время в фокусе внимания экспертов находится поиск ответа на сложный вопрос о механизмах, лежащих в основе патогенеза различных форм хронической индуцированной крапивницы. Одна из выдвинутых теорий связана с изучением роли механизма аутоаллергии, которая находит подтверждение в результатах опубликованных исследований и положительном опыте применения анти-IgE-терапии у пациентов с хронической индуцированной крапивницей [22].
Выявление коморбидных заболеваний, особенно аутоиммунного спектра, имеет значение в связи с рассматриваемыми патогенетическими вариантами развития заболевания. Распространённость отдельных аутоиммунных заболеваний у пациентов с ХСК увеличена (≥1% в большинстве исследований против ≤1% в общей популяции). Частота сопутствующих аутоиммунных заболеваний в большинстве исследований составляла ≥1% для инсулинозависимого сахарного диабета, ревматоидного артрита, псориаза и целиакии, ≥2% для болезни Грейвса, ≥3% для витилиго и ≥5% для пернициозной анемии и тиреоидита Хашимото. Органоспецифические аутоиммунные заболевания более распространены у пациентов с ХСК, чем системные. Аутоиммунный тиреоидит является наиболее частой формой органоспецифического аутоиммунного заболевания и встречается у пациентов с ХСК. Более 15% пациентов с ХСК имеют положительный семейный анамнез аутоиммунных заболеваний [24].
ХСК не является атопическим заболеванием, хотя атопия относительно часто встречается у пациентов с ХСК (16,9%), особенно в детской популяции [25].
В связи с изнурительным характером течения ХСК более 30% пациентов испытывают сопутствующие психические расстройства, включая тревогу, депрессию и соматоформные состояния, что оказывает значительное негативное влияние на качество их жизни [2].
Течение ХСК может сопровождаться периодами спонтанной ремиссии или со временем рецидивировать. Среди взрослых средняя продолжительность ХСК оценивается в 11,5±10,8 года, при этом ремиссия в течение 1 года от начала заболевания наступает только у 20–75%, в течение 5 лет ― только у 30–55% [2]. Сообщается, что хроническая индуцированная крапивница имеет более низкую вероятность разрешения, чем ХСК, при этом только 13 и 50% пациентов с хронической индуцированной крапивницей освобождаются от симптомов в течение 1 года и 5 лет соответственно [26].
Известны факторы, влияющие на длительность заболевания: тяжёлое течение ХК, дебют в возрасте старше 45 лет, недостаточный ответ на стандартные дозы неседативных H1-антигистаминных препаратов (нсН1-АГП), сопутствующие ангиоотёки, сопутствующая индуцируемая крапивница, непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов, рецидивирующий характер течения. Некоторые лабораторные биомаркеры (высокий уровень C-реактивного белка и D-димера) могут прогнозировать тяжесть заболевания, но не связаны с длительностью заболевания [2, 11]. Тяжёлое и средней тяжести течение заболевания отмечено у 5 из 10 пациентов [27], ангиоотёки часто не диагностируются врачами [27], то же касается сопутствующей индуцированной крапивницы, встречающейся менее чем у 30% пациентов с ХСК [28].
Диагностика
Диагностика ХК основана на обнаружении типичных уртикарий и/или ангиоотёков, которые беспокоят пациента более 6 нед. Структурированный сбор анамнеза, физикальное обследование являются ключевыми шагами, определяющими дальнейший объём обследования пациента. Спектр обязательной лабораторной диагностики пациентов с ХСК ограничивается развёрнутым общим клиническим анализом крови, исследованием скорости оседания эритроцитов (СОЭ) и исследованием уровня C-реактивного белка. Расширенная лабораторная диагностика продиктована клинической ситуацией, анамнезом пациента и может включать тесты для исключения инфекционных заболеваний (например, Helicobacter pylory), паразитарной инвазии, атопии; определение уровней гормонов щитовидной железы и антител к структурам щитовидной железы [тиреоглобулин, тироксин cвободный (Т4), трийодтиронин свободный (Т3), антител к тиреопероксидазе и тиреоглобулину]; тесты для исключения физической крапивницы с лекарствами, пищевые оральные; тест с аутологичной сывороткой; определение триптазы; проведение биопсии кожи; определение D-димера, антинуклеарных антител, С3/С4-компонента комплемента, белковых фракций. Рекомендуется ограничить рутинные диагностические тесты при индуцируемой крапивнице до выявления порога провоцирующего фактора [8].
В рамках онлайн-сессий слушатели программы «посетили» процедурный кабинет и кабинет функциональной диагностики, где ознакомились с проведением провокационных тестов для диагностики индуцированной крапивницы (холодовой, холинергической, дермографической, замедленной крапивницы от давления), теста с аутосывороткой, диагностического тестирования с аллергенами, биопсии кожи, оценки тестов мониторинга течения ХК.
Мы обратили внимание слушателей на мониторинг заболевания как наиболее объективный метод оценки состояния пациентов и эффективности терапии. Насущной необходимостью является включение в план обследования и мониторинга течения болезни и эффективности терапии нескольких опросников. Оценка активности крапивницы рекомендуется к применению в клинической и исследовательской деятельности. Для этой цели используется простая балльная система — UAS7 (Urticaria Activity Score 7), или индекс активности крапивницы для оценки тяжести заболевания и результатов лечения спонтанной крапивницы. UAS7 предполагает суммарную оценку основных симптомов заболевания (количество высыпаний и интенсивность зуда) самим пациентом каждые 24 ч за 7 последовательных дней (табл.). Эта оценка удобна для пациента и врача, позволяет объективно оценить состояние пациента и его индивидуальный ответ на проводимую терапию (сильная рекомендация / доказательства высокого качества) [8]. Сумма баллов за сутки — от 0 до 6, за неделю — максимум 42 балла.
Разработан дневник крапивницы, с помощью которого проводится мониторинг течения болезни, влияния факторов и триггеров на симптомы заболевания, контроль приёма лекарственных средств. Эта балльная оценка активности не может быть использована для оценки активности физической крапивницы и изолированных ангиоотёков.
Важным инструментом для оценки течения заболевания является тест контроля крапивницы (Urticaria Control Test, UCT), который, как правило, используется у пациентов с хронической спонтанной и индуцированной крапивницей с целью контроля болезни за последние 4 нед. Требуется ответить на 4 вопроса, касающиеся контроля симптомов болезни, влияния на качество жизни, эффективности лечения, общего контроля заболевания. Каждый ответ на вопрос оценивается в баллах от 0 до 4. Максимальная сумма баллов при ответах на вопросы — 16, что соответствует полному контролю болезни. Пороговое значение 12 баллов. UCT ≤11 баллов свидетельствует о неконтролируемом течении ХК (рис. 4) [29].
Дифференциальная диагностика
Дифференциальная диагностика проводится с рядом заболеваний, проявляющихся уртикарными, уртикароподобными элементами, ангиоотёками и часто не типичными для крапивницы симптомами.
В ряду таких заболеваний уртикарный васкулит. Волдыри при уртикарном васкулите сохраняются более 24 ч, сопровождаются пурпурой, вторичной гиперпигментацией, ощущениями жжения и болезненности, могут наблюдаться ангиоотёк, livedo reticularis, лихорадка, недомогание, миалгия и артралгии. Для подтверждения диагноза уртикарного васкулита требуется гистологическое исследование биоптата поражённой кожи с выявлением типичных гистологических признаков уртикарного васкулита.
Таблица. Оценка активности крапивницы (UAS7) за 7 дней [8].
Table. Assessment of urticaria activity (UAS7) for 7 days [8].
Балл | Степень проявлений | |
Волдыри | Зуд | |
0 | Нет | Нет |
1 | Лёгкая (<20 волдырей / 24 ч) | Лёгкая (присутствует, но не причиняет беспокойства) |
2 | Средняя (20–50 волдырей / 24 ч) | Средняя (беспокоит, но не влияет на дневную активность и сон) |
3 | Интенсивная (>50 волдырей / 24 ч, или большие сливающиеся волдыри) | Интенсивная (тяжёлый зуд, достаточно беспокоящий, нарушающий дневную активность и сон) |
Рис. 4. Определение контроля над симптомами крапивницы (UCT-тест) [29].
Fig. 4. Determination of urticaria symptom control (UCT-test) [29].
Многоформная экссудативная эритема ― острое заболевание кожи и слизистых оболочек, характеризуемое внезапным появлением полиморфной сыпи, представленной папулами, пятнами, пузырями, реже встречаются элементы по типу пальпируемой пурпуры, часть высыпаний превращается в типичные и/или изредка атипичные узелковые мишеневидные элементы. Поражение слизистых оболочек типично для большой формы заболевания.
Т-клеточная лимфома нередко манифестирует распространённым кожным зудом. На ранних стадиях заболевания кожные инфильтраты, разрешающиеся в течение 24–48 ч, сопровождаются зудом, иногда ангиоотёком и могут интерпретироваться как крапивница.
Пигментная крапивница (также известная как пятнисто-папулёзная форма кожного мастоцитоза) характеризуется красно-коричневыми пятнами и папулами, при потирании которых формируется волдырь (положительный симптом Унны–Дарье).
Ранняя локализованная форма клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) может манифестировать хронической мигрирующей эритемой, которую необходимо дифференцировать с крапивницей.
Полиморфные высыпания беременных характеризуются возникновением на коже интенсивно зудящих отёчных эритематозных папул и бляшек. Высыпания чаще возникают у первородящих в III триместре беременности и разрешаются на 7–10-е сутки после родов. Высыпания преимущественно локализуются в области живота, бёдер и ягодиц, часто ― в области стрий.
Аутоиммунный прогестероновый дерматит характеризуется полиморфными высыпаниями, часто уртикарными, которые возобновляются циклически каждый месяц в лютеиновую фазу менструального цикла и спонтанно разрешаются во время менструации. Обострение заболевания может наблюдаться при использовании оральных контрацептивов, содержащих прогестерон.
Ретикулярный эритематозный муциноз ― редкое заболевание, которое отличается появлением эритематозных пятен, узелков и бляшек, уртикароподобных пятен и папул. Чаще возникает у женщин среднего возраста.
Системная красная волчанка сопровождается уртикарными и уртикароподобными высыпаниями, особенно в активную фазу заболевания. ХСК может быть одним из первых симптомов системной красной волчанки и на десять лет предшествовать её манифестации.
Аутовоспалительные заболевания, среди которых выделяют криопиринассоциированные синдромы ― группу редких врождённых аутовоспалительных заболеваний, включающую семейный холодовой аутовоспалительный синдром / семейную холодовую крапивницу (Familial Cold Autoinflammatory syndrome / Familial Cold Urticaria, FCAS/FCU), синдром Макла–Уэльса (Muckle–Wells syndrome, MWS), хронический младенческий неврологический кожно-артикулярный синдром / младенческое мультисистемное воспалительное заболевание (Chronic Infantile Onset Neurologic Cutаneous Articular / Neonatal Onset Multisystem Inflammatory Disease, CINCA/NOMID). Перечисленные синдромы характеризуются ранним началом как правило, на первом году жизни, рецидивирующей или персистирующей лихорадкой, уртикарной или уртикароподобной сыпью, широким спектром поражения суставов ― от артралгий до рецидивирующего и персистирующего артрита при тяжёлых вариантах, а также (для MWS и CINCA/NOMID) поражением центральной и периферической нервной системы. Основным осложнением является амилоидоз, развивающийся вследствие хронического воспаления, который нередко является причиной гибели пациентов.
Синдром Шницлер характеризуется рецидивирующими кожными уртикарными высыпаниями в сочетании с моноклональной гаммапатией, ассоциированными с клиническими и биологическими признаками воспаления и риском развития АА-амилоидоза и лимфопролиферативных заболеваний. К проявлениям системного воспаления при данном заболевании относятся также рецидивирующая лихорадка, боли в костях, мышцах, артралгии/артрит, лимфаденопатия, гепато- или спленомегалия, повышение уровня острофазовых маркеров (СОЭ, C-реактивный белок, SAA).
Синдром моноклональной активации тучных клеток характеризуется симптомами, обусловленными высвобождением медиаторов тучных клеток: рецидивирующие анафилактические эпизоды с гипотензией и обмороками, возникающие без видимых причин (идиопатическая анафилаксия) или после ужаления перепончатокрылыми насекомыми. Диагноз подтверждается с помощью серийного определения уровня триптазы крови, биопсии костного мозга с проведением иммуногистохимического и молекулярно-генетического исследования. У таких пациентов не применяются диагностические критерии для системного мастоцитоза.
Наличие у пациентов с ХСК ангиоотёков, особенно изолированных, и нетипичной клинической картины диктует необходимость дифференциальной диагностики с наследственным или приобретённым ангиоотёком [8].
С диагностической точки зрения, ХСК в большинстве случаев рассматривается врачами как диагноз исключения, что объясняет длительный путь при его постановке [27, 30]. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что расширенная диагностика для идентификации причин ХК и дифференциально-диагностический поиск должны быть целесообразными и обоснованными [4, 8].
Принципы терапевтического ведения пациентов с крапивницей
Профессор Е.С. Феденко рассказала о современных принципах ведения пациентов с ХК и алгоритме терапии, акцентируя внимание на необходимости достижения основной цели терапии ― полного контроля симптомов заболевания. Основными принципами ведения пациентов считаются элиминация и устранение причин/триггеров, фармакотерапия, индукция толерантности, регулярный самоконтроль состояния пациентами [4, 8].
Современный алгоритм фармакотерапии предполагает этапное ведение пациентов с ХК, в частности с ХСК (рис. 5) [4, 8].
Первая линия терапии ― приём нсН1-АГП в стандартной дозе. Почти 60% пациентов с ХСК продолжают испытывать симптомы, несмотря на лечение H1-АГП второго поколения в стандартных дозах [31]. Если эффект не достигнут или недостаточен в течение 2–4 нед или ранее при условии непереносимости симптомов, предлагается увеличение дозы H1-АГП второго поколения вплоть до 4-кратной ― вторая линия терапии. Необходимо помнить, что увеличение дозы нсН1-АГП до 4-кратной является лечением не по показаниям, но с доказанной эффективностью и безопасностью [4, 8]. Однако почти 40% пациентов с ХСК не получают дополнительного эффекта от увеличения дозы H1-АГП и продолжают страдать от симптомов [31].
Рис. 5. Алгоритм медикаментозного лечения пациентов с хронической крапивницей [4].
Fig. 5. Algorithm for drug treatment of patients with chronic urticaria [4].
В случае неэффективной терапии второй линии в течение 2–4 нед или ранее, если симптомы непереносимы, рекомендуется лечение омализумабом (третья линия терапии) [8, 4, 32]. В соответствии с современным алгоритмом рекомендуется лечение омализумабом в течение 6 мес перед переходом на четвёртую линию терапии ХК в случае неэффективности или ранее, если симптомы непереносимы. Торпидные к лечению омализумабом пациенты получают терапию четвёртой линии. В клинических исследованиях показана эффективность циклоспорина в лечении ХСК, но это лечение проводится не по показаниям (необходимо оформление через врачебную комиссию). Требуется постоянный контроль артериального давления, функции почек, уровня циклоспорина в крови для предупреждения вероятных осложнений. На любом этапе лечения возможно проведение короткого курса лечения обострения крапивницы глюкокортикостероидами (ГКС). Длительного лечения ГКС необходимо избегать [4, 8].
Иммунобиологическая терапия
Профессор О.М. Курбачева и д.м.н. О.Г. Елисютина в рамках дискуссии экспертов обсудили теоретическое обоснование и практическое использование иммунобиологических препаратов в аллергологии в целом, а также непосредственно для лечения ХК. Биологическая терапия в аллергологии активно используется для лечения тяжёлых форм атопической бронхиальной астмы, атопического дерматита. Официально разрешённая терапия хронической идиопатической (спонтанной) крапивницы омализумабом инициирована в 2014 г. В действующем Европейском согласительном документе EAACI/GA2LEN/EDF/WAO по определению, классификации, диагностике и лечению крапивницы омализумаб является единственным биологическим препаратом, рекомендованным к применению при неэффективности нсН1-АГП [4].
Место омализумаба в лечении пациентов с крапивницей
Омализумаб, производное рекомбинантной ДНК, ― гуманизированное IgG1-каппа моноклональное антитело, селективно связывающее свободный IgE человека, что помогает предотвратить присоединение IgE к FcɛRI4. Основные механизмы действия омализумаба ― снижение уровня свободного IgE и понижающая регуляция экспрессии FcɛRI на тучных клетках и базофилах [33–35]. Снижение уровней FcɛRI происходит в результате деградации свободных FcɛRI, находящихся вне связи с IgE, и отмены связывания IgE с FcεRI+ или FcεRII+ (CD23) клетками (B-клетками, дендритными клетками, эозинофилами и моноцитами) [34, 36]. В одном из исследований III фазы отмечено, что терапия омализумабом приводила к сходному ответу у пациентов, независимо от индекса активности крапивницы [37]. В течение 24 ч после введения омализумаба у 28% пациентов отмечен контроль крапивницы (снижение по UAS7 ≥90%) [38]. По-видимому, такая скорость контроля симптомов может быть достигнута за счёт способности омализумаба ускорять диссоциацию комплекса IgE-FcεRI на поверхности тучной клетки. Показано, что в диапазоне физиологических концентраций омализумаб может ускорять диссоциацию уже сформированного комплекса IgE-FcεRI на поверхности тучных клеток и базофилов в дополнение к его способности связывать свободный IgE, что приводит к нарушению IgE-опосредованного сигнального каскада [38, 39]. Снижение высвобождения медиаторов из тучной клетки ― следующий механизм действия омализумаба [33, 40–42]. Также сообщалось, что омализумаб способен вызывать апоптоз эозинофилов [43].
Результатами клинических исследований II фазы (X-CIUSITE и MYSTIQUE) доказана лечебная эффективность анти-IgE-терапии пациентов с ХСК, впервые продемонстрированы эффективность и безопасность омализумаба в сравнении с плацебо [44, 45].
Результаты клинической программы исследований III фазы ASTERIA I, II и GLACIAL сыграли фундаментальную роль в одобрении омализумаба Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) и Европейским агентством лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) для лечения ХСК, резистентной к терапии блокаторами H1-рецепторов, у пациентов в возрасте 12 лет и старше, и послужили основанием для регистрации по данному показанию препарата в России [37, 46, 47]. В 2015 г. проведён и опубликован метаанализ 7 рандомизированных двойных слепых плацебоконтролируемых исследований оценки эффективности и безопасности омализумаба, в которых приняло участие 1312 пациентов с ХСК. Данный метаанализ обеспечивает высокое качество доказательства эффективности и безопасности омализумаба у этих больных и рекомендацию по лечению в дозе 300 мг каждые 4 нед. Частота и вид нежелательных явлений были схожими при терапии омализумабом и плацебо [48]. По результатам метаанализа исследований реальной клинической практики (проанализировано 67 наблюдательных исследований терапии омализумабом подростков и взрослых с ХСК), опубликованного в 2019 г., были получены достоверные и клинически значимые изменения показателя активности (тяжести) крапивницы за неделю по шкале UAS7 (−25,6; 95% ДИ −28,2…−23,0; p<0,001). Суммарный полный и частичный ответ на терапию омализумабом составил порядка 90%: 72,2% пациентов достигли 0 баллов по UAS7 (95% ДИ 66,1–78,3, p<0,001; 45 исследований, 1158 пациентов). Омализумаб улучшал качество жизни пациентов с ХСК, оцениваемое по опроснику CU-Q2oL (−42,3; −18,9…−65,8), p<0,001; 70 пациентов). Частота нежелательных явлений составляла 4% (95% ДИ 1,0–7,0, p<0,001; 47 исследований, 1314 пациентов). Показаны эффективность и безопасность омализумаба в терапии ХСК в условиях повседневной клинической практики, соответствующие или превышающие результаты, полученные в рандомизированных клинических исследованиях [49].
К особенностям клинического ответа на омализумаб относятся скорость ответа (ранний ― до 4 нед включительно; поздний ― от 5 до 24 нед). В связи с этим рекомендованная стартовая длительность терапии омализумабом составляет 6 мес. Таким образом, если лечение омализумабом останавливается рано, потенциальные респонденты на препарат могут быть пропущены [4, 50]. По нашим собственным данным, 88,8% пациентов достигли эффекта после первой инъекции омализумаба (данные, полученные в результате врачебной практики, предоставлены И.В. Данилычевой, в.н.с. отделения аллергологии Института иммунологии). Оптимальная длительность терапии омализумабом не установлена. Рекомендуемая периодичность оценки состояния пациента ― каждые 3 мес. Быстрая отмена препарата может привести к потере контроля и рецидиву ХСК. По данным исследования XTEND-CIU, длительная терапия омализумабом в течение 48 нед приводила к значимому стабильному улучшению качества жизни пациентов, оцениваемому по дерматологическому индексу качества жизни DLQI. В сравнении с другими рандомизированными клиническими исследованиями отмечен больший процент хорошо контролируемых пациентов (73%) и пациентов с полным контролем ХСК ― UAS7 0 (52%) на 24-й нед терапии c сохранением контролируемого течения при 48-недельном периоде лечения [51].
Существует группа факторов, указывающих на необходимость длительного лечения омализумабом: сопутствующие ангиоотёки, сопутствующая индуцируемая крапивница, отсутствие полного контроля симптомов ХСК после 6 мес стартовой терапии, высокий первоначальный балл (28–42) по шкале UAS7, медленный ответ на стартовую терапию [4, 52]. Терапия омализумабом значимо улучшает качество жизни пациентов с ХСК и сопутствующими ангиоотёками благодаря достоверному и клинически значимому снижению их количества и активности (тяжести) в сравнении с группой плацебо. Данный эффект был продемонстрирован в рамках многоцентрового рандомизированного плацебоконтролируемого исследования X-ACT с длительностью лечебного периода омализумабом 28 нед [53]. Особенности ведения пациентов с ХСК и сопутствующими ангиоотёками, в том числе с клиническим фенотипом ХСК, проявляющимся только изолированными ангиоотёками, представила в своём выступлении д.м.н. Е.А. Латышева.
В настоящее время появились доказательства возможности увеличения терапевтической дозы омализумаба до 450 мг или 600 мг для терапии ХСК в случае недостаточного клинического ответа на стандартную дозу препарата. Обзор данных исследований реальной клинической практики выдвигает на первый план доказательства того, что повышение дозы омализумаба ассоциировано с частотой полного ответа у 60% пациентов с ХСК с недостаточным ответом на стандартную дозу препарата. Такой подход может быть безопасной и эффективной стратегией применения омализумаба у отдельной когорты пациентов [54].
Актуален вопрос прекращения терапии в связи с достижением ремиссии заболевания. Утверждённых протоколов отмены омализумаба нет. Предлагается рассмотреть подходы одновременной полной отмены препарата; увеличения интервала введения омализумаба; снижения дозы омализумаба и увеличения интервала введения препарата [55]. Пока нет общепринятого определения ремиссии ХСК. Можно считать, что пациенты, у которых нет симптомов ХСК (UAS7 0 баллов) при условии отсутствия приёма каких-либо лекарств более 6 мес, могут быть отнесены в группу пациентов с полной ремиссией [56].
Актуальные вопросы безопасности генно-инженерной биологической терапии были освещены в докладе к.м.н. Е.В. Кожиновой. Лектор представила информацию об аспектах детальной оценки безопасности генно-инженерной биологической терапии как на доклинических, так и на всех этапах клинических исследований и пострегистрационного использования препарата. Подчеркнула перспективы обязательного полного представления информации о безопасности биологических препаратов в общедоступных интернет-источниках для практикующих врачей. Омализумаб доказал свою безопасность как в рамках рандомизированных клинических исследований, так и в реальной клинической практике. Совокупный опыт применения омализумаба у пациентов с атопической бронхиальной астмой и хронической спонтанной и индуцированной крапивницей составляет более 1 300 000 пациенто-лет [57].
В ходе образовательного мероприятия к.м.н. И.В. Данилычева затронула тему новых горизонтов в терапии ХК. За последние несколько лет опубликовано значительное количество статей, посвящённых разработке целого ряда новых подходов и молекул, направленных на регулирование высвобождения медиаторов из эффекторных клеток при ХК. В фокусе внимания экспертов и исследователей находятся мембранные рецепторы, экспрессируемые тучными клетками и базофилами, а также внутриклеточные сигнальные молекулы [13].
Возможные варианты воздействия на тучную клетку могут быть следующие.
- Подавление сигналов активации и пролиферации тучных клеток.
Может быть реализовано путем блокирования воздействия на высокоаффинный рецептор к IgE (FcεRI); рецепторы TSLP (тимический стромальный лимфопоэтин); KIT (фактор стволовых клеток); ИЛ-4 и ИЛ-5; C5a; а также MRGPRX2 (Mas-связанный G-белок, сопряжённый с рецептором X2), CRTh2 (хемоаттрактантная молекула, гомологичная рецепторам, экспрессируемым Th2-лимфоцитами) [58]. В настоящее время проводятся клинические исследования по оценке эффективности и безопасности молекулы лигелизумаб (ClinicalTrials.gov). Моноклональное анти-IgE антитело второго поколения — лигелизумаб (QGE031) способно связываться с высоким аффинитетом с Cε3 доменом свободного IgE. В сравнении с омализумабом лигелизумаб имеет в 40–50 раз большее сродство к IgE in vitro и демонстрирует в 6–9 раз большее подавление индуцированных аллергеном кожных prick-тестов. Он обеспечивает более сильное и продолжительное связывание свободных IgE, чем омализумаб [59]. Лигелизумаб демонстрирует преимущественное ингибирование связывания IgE с FcεRI, однако менее эффективен в ингибировании взаимодействий IgE: CD23 (FcεRII) в сравнении с омализумабом [60].
- Торможение/подавление внутриклеточных сигналов активации и дегрануляции тучных клеток.
Может быть обеспечено путём блокирования тирозинкиназы Брутона (Bruton tyrosine kinase, BTK) и тирозинкиназы селезенки (Spleen tyrosine kinase, SYK). Брутоновская тирозинкиназа, как известно, связана с активацией B-клеточного рецептора (B-cell antigen receptor, BCR), поэтому ингибирование BCR может привести к снижению секреции/продукции антител, включая IgE плазматические клетки. Кроме того, тирозинкиназа Брутона присутствует в тучных клетках. В рамках II фазы клинического исследования у пациентов с ХСК изучается эффективность и безопасность молекулы ремибрутиниб (LOU064) — высокоселективного ковалентного ингибитора тирозинкиназы Брутона. Ремибрутиниб способен проникать в тучную клетку и связываться с брутоновской тирозинкиназой, подавляя нисходящий каскад сигналов от FcεRI, приводящих к активации и высвобождению медиаторов, включая гистамин, цитокины, хемокины [61].
- Торможение тучных клеток в результате связывания с ингибирующими рецепторами.
Мишенями для такого воздействия могут быть рецепторы Siglec-8, CD200R, CD300. Siglec-8 экспрессирован на эозинофилах, тучных клетках и в меньшей степени на базофилах. Siglec-8 — ингибиторный иммунорегуляторный рецептор. Связывание этого рецептора вызывает апоптоз эозинофилов. В тучных клетках связывание Siglec-8 не вызывает апоптоза, но ингибирует FcεRIα-опосредованный вход кальция и высвобождение простагландина D2 и гистамина [62, 63]. Разработано терапевтическое моноклональное антитело aнтолимаб(AK002), мишенью которого является Siglec-8. В настоящее время завершена IIа фаза исследования этого перспективного препарата у пациентов с симптоматическим дермографизмом и холинергической крапивницей.
Целый ряд молекул, воздействующих на основные пути активации тучных клеток, находятся в различных фазах клинических исследований (ClinicalTrials.gov). Даже если не все потенциальные молекулы будут одобрены для лечения пациентов с ХК, часть из них смогут решить проблему лечения этой непростой категории пациентов.
Практический опыт
Основная часть образовательной программы была посвящена представлению клинических случаев пациентов, интересных как с точки зрения дифференциальной диагностики ХСК, так и с точки зрения терапии заболевания. Эксперты (д.м.н. Латышева Е.А., к.м.н. Данилычева И.В., к.м.н. Павлова К.С., д.м.н. Елисютина О.Г., к.м.н. Назарова Е.В.) выступили с демонстрацией и анализом клинических случаев из собственной практики наряду с молодыми сотрудниками Института иммунологии (Дорофеева И.В., Примак А.В., Манто И.А.), которые представили клинические демонстрации, касающиеся дифференциальной диагностики и терапии пациентов с ХСК и уртикарным васкулитом, аутовоспалительным заболеванием, со спонтанным гистаминергическим или наследственным ангиоотёком.
Руководитель GA2LEN UCARE центра к.м.н., в.н.с. И.В. Данилычева познакомила слушателей с собственным опытом aнти-IgE терапии пациентов с ХСК. В частности, привела разработанный примерный алгоритм терапии ХСК омализумабом. Начальный курс терапии омализумабом 300 мг подкожно 1 раз в 4 нед в течение 6 мес. Через 3 мес от начала терапии проводится предварительная оценка состояния (UAS7, контроль дополнительной терапии). У «быстрых полных ответчиков» возможны снижение и отмена Н1-АГП второго поколения. У тех, кто принимал ГКС до начала терапии омализумабом, предпринимается попытка снижения дозы и отмены ГКС. Для «быстрых неполных ответчиков», предполагаемых «поздних» ответчиков и «неответчиков» сохраняется повышенная доза Н1-АГП второго поколения, предпринимается попытка снижения дозы и отмены ГКС для тех, кто принимал ГКС до начала терапии омализумабом; при тяжёлых обострениях крапивницы рекомендуется проводить короткие курсы ГКС. Если симптомы непереносимы, или для купирования обострения требуются большие дозы ГКС, пациента следует перевести на 4-ю линию терапии. Этих пациентов необходимо дообследовать по расширенной схеме с включением исследования биопсии кожи для исключения уртикарного васкулита. Через 6 мес терапии омализумабом проводится повторная оценка состояния (UAS7, контроль дополнительной терапии). Для «полных ответчиков», не принимающих дополнительную терапию, рекомендуется увеличение интервала до появления высыпаний, или уменьшение дозы до 150 мг, или то и другое. Длительность интервала устанавливается эмпирически. Появление первых симптомов крапивницы является сигналом к продолжению терапии. Отсутствие высыпаний в течение 6 мес может считаться ремиссией ХСК. При невозможности проведения новой схемы, рекомендуется возврат к первоначальной схеме и продолжение лечения еще 6 мес. Для «неполных ответчиков» предлагается продолжить терапию омализумабом и приём Н1-АГП в увеличенной дозе. Для «неответчиков» предлагается переход на 4-й этап терапии. Далее каждые 3-6 мес должен проводиться контроль состояния по аналогичной схеме. Длительность терапии омализумабом не определена и диктуется клинической ситуацией (Данилычева И.В. Собственные данные).
Заключение
Во время проведения программы у слушателей была возможность задавать вопросы и делиться собственным опытом. Опыт проведения данной обучающей программы показал эффективность подобного стиля подачи материала, заинтересованность слушателей, ставших активными участниками программы, отлично ответивших на тестовые вопросы и давших положительные отклики.
Дополнительная информация
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования.
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Вклад распределён следующим образом: идея статьи — все авторы, написание текста — Данилычева И.В., Елисютина О.Г., Литвин Л.С., Феденко Е.С., Щубелко Р.В., научное редактирование — Ильина Н.И., оформление, редактирование — все авторы.
Author contribution. All authors confirm that their authorship meets the international ICMJE criteria (all authors made a significant contribution to the development of the concept, and the preparation of the article, read and approved the final version before publication). The contribution is distributed as follows: the idea of article – all authors; writing of the text ― Danilycheva I.V., Elisyutina O.G., Litvin L.S., Fedenko E.S., Shchubelko R.V.; article science design — IlyinaN.I.; article design, editing ― all authors.
1 Urticaria Centers of Reference and Excellence. Available from: http://www.ga2len-ucare.com/centers.html
2 Available from: www.urticariaday.org
3 Urticaria Centers of Reference and Excellence. Available from: www.ga2len-ucare.com
4 Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Ксолар® (ЛП-004376 от 17.07.2017, изменение
Об авторах
Наталия Ивановна Ильина
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Автор, ответственный за переписку.
Email: instimmun@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-3556-969X
SPIN-код: 6715-5650
д.м.н., профессор
Россия, 115522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Инна Владимировна Данилычева
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: ivdanilycheva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-8279-2173
SPIN-код: 4547-3948
к.м.н.
Россия, 115522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Ирина Владимировна Дорофеева
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: idorofeeva1@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-4423-1797
MD
Россия, 115522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Ольга Гурьевна Елисютина
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: el-olga@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-4609-2591
SPIN-код: 9567-1894
д.м.н.
Россия, 115522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Оксана Михайловна Курбачева
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: kurbacheva@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3250-0694
SPIN-код: 5698-6436
д.м.н., профессор
Россия, 115522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Елена Александровна Латышева
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: ealat@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1606-205X
SPIN-код: 2063-7973
д.м.н.
Россия, 115522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Лолиана Стефановна Литвин
ООО «Новартис Фарма»
Email: loliana.litvin@novartis.com
ORCID iD: 0000-0002-2229-1078
SPIN-код: 6105-1370
к.м.н.
Россия, МоскваИрина Александровна Манто
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: irina.manto@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-6432-394X
SPIN-код: 7944-5159
к.м.н.
Россия, 115522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Евгения Валерьевна Назарова
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: evallergo@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0380-6205
SPIN-код: 4788-7407
к.м.н.
Россия, 115522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Ксения Сергеевна Павлова
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: ksenimedical@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-4164-4094
SPIN-код: 7593-0838
к.м.н.
Россия, 115522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Анастасия Станиславовна Примак
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: soulcreek.94@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1309-5101
MD
Россия, 115522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Елена Сергеевна Феденко
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: efedks@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3358-5087
SPIN-код: 5012-7242
д.м.н., профессор
Россия, 115522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Розалия Васильевна Щубелко
Государственный научный центр «Институт иммунологии» Федерального медико-биологического агентства
Email: spapharia@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-6993-9831
SPIN-код: 4553-3234
к.м.н.
Россия, 115522, Москва, Каширское шоссе, д. 24Список литературы
- Fricke J., Ávila G., Keller T., et al. Prevalence of chronic urticaria in children and adults across the globe: Systematic review with meta-analysis // Allergy. 2020. Vol. 75, N 2. P. 423–432. doi: 10.1111/all.14037
- Gonçalo M., Gimenéz-Arnau A., Al-Ahmad M., et al. The global burden of chronic urticaria for the patient and society // Br J Dermatol. 2021. Vol. 184, N 2. P. 226–236. doi: 10.1111/bjd.19561
- Данилычева И.В., Ильина Н.И., Лусс Л.В. и др. Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению крапивницы // Российский аллергологический журнал. 2016. № 1. С. 38–46.
- Zuberbier T., Aberer W., Asero R., et al. The EAACI/GA²LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis and management of urticaria // Allergy. 2018. Vol. 73, N 7. P. 1393–1414. doi: 10.1111/all.13397
- Maurer M., Metz M., Bindslev-Jensen C., et al. Definition, aims, and implementation of GA(2) LEN Urticaria Centers of Reference and Excellence // Allergy. 2016. Vol. 71, N 8. P. 1210–1218. doi: 10.1111/all.12901
- Kocatürk E. Treatment patterns and outcomes in patients with chronic urticaria during pregnancy: Results of the PREG-CU study, a UCARE project. Oral presentation. GA²LEN GLOBAL URTICARIA FORUM 2020. Available from: www.globalurticariaforum.org
- Weller K., Giménez-Arnau A., Grattan C., et al. The Chronic Urticaria Registry: rationale, methods and initial implementation // J Eur Acad Dermatol Venereol. 2021. Vol. 35, N 3. P. 721–729. doi: 10.1111/jdv.16947
- Аллергология и клиническая иммунология. Клинические рекомендации / под ред. Р.М. Хаитова, Н.И. Ильиной. Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2019. 352 с. (Серия «Клинические рекомендации»).
- Antia C., Baquerizo K., Korman A., et al. Urticaria: A comprehensive review: Epidemiology, diagnosis, and work-up // J Am Acad Dermatol. 2018. Vol. 79, N 4. P. 599–614. doi: 10.1016/j.jaad.2018.01.020
- Bernstein J.A., Lang D.M., Khan D.A., et al. The diagnosis and management of acute and chronic urticaria: 2014 update // J Allergy Clin Immunol. 2014. Vol. 133, N 5. P. 1270–1277. doi: 10.1016/j.jaci.2014.02.036
- Maurer M., Weller K., Bindslev-Jensen C., et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report // Allergy. 2011. Vol. 66, N 3. P. 317–330. doi: 10.1111/j.1398-9995.2010.02496.x
- Maurer M., Eyerich K., Eyerich S., et al. Urticaria: Collegium Internationale Allergologicum (CIA) Update 2020 // Int Arch Allergy Immunol. 2020. Vol. 181, N 5. P. 321–333. doi: 10.1159/000507218
- Schmetzer O., Lakin E., Topal F.A., et al. IL-24 is a common and specific autoantigen of IgE in patients with chronic spontaneous urticaria // J Allergy Clin Immunol. 2018. Vol. 142, N 3. P. 876–882. doi: 10.1016/j.jaci.2017.10.035
- Altrichter S., Peter H.J., Pisarevskaja D., et al. IgE mediated autoallergy against thyroid peroxidase — a novel pathomechanism of chronic spontaneous urticaria? // PLoS One. 2011. Vol. 6, N 4. P. e14794. doi: 10.1371/journal.pone.0014794
- Hatada Y., Kashiwakura J., Hayama K., et al. Significantly high levels of anti-dsDNA immunoglobulin E in sera and the ability of dsDNA to induce the degranulation of basophils from chronic urticaria patients // Int Arch Allergy Immunol. 2013. Vol. 161, Suppl 2. P. 154–158. doi: 10.1159/000350388
- Cugno M., Asero R., Ferrucci S., et al. Elevated IgE to tissue factor and thyroglobulin are abated by omalizumab in chronic spontaneous urticaria // Allergy. 2018. Vol. 73, N 12. P. 2408–2411. doi: 10.1111/all.13587
- Bracken S.J., Abraham S., MacLeod A.S. Autoimmune Theories of chronic spontaneous urticaria // Front Immunol. 2019. Vol. 10. P. 627. doi: 10.3389/fimmu.2019.00627
- Sánchez J., Sánchez A., Cardona R. Causal relationship between anti-TPO IgE and chronic urticaria by in vitro and in vivo tests // Allergy Asthma Immunol Res. 2019. Vol. 11, N 1. P. 29–42. doi: 10.4168/aair.2019.11.1.29
- Staubach P., Vonend A., Burow G., et al. Patients with chronic urticaria exhibit increased rates of sensitisation to Candida albicans, but not to common moulds // Mycoses. 2009. Vol. 52, N 4. P. 334–338. doi: 10.1111/j.1439-0507.2008.01601.x
- Altrichter S., Fok J.S., Jiao Q., et al. Total IgE as a marker for chronic spontaneous urticaria // Allergy Asthma Immunol Res. 2021. Vol. 13, N 2. P. 206–218. doi: 10.4168/aair.2021.13.2.206
- Ferrer M., Kinét J.P., Kaplan A.P. Comparative studies of functional and binding assays for IgG anti-Fc(epsilon)RIalpha (alpha-subunit) in chronic urticaria // J Allergy Clin Immunol. 1998. Vol. 101, N 5. P. 672–676. doi: 10.1016/s0091-6749(98)70176-9
- Maurer M., Metz M., Brehler R., et al. Omalizumab treatment in patients with chronic inducible urticaria: A systematic review of published evidence // J Allergy Clin Immunol. 2018. Vol. 141, N 2. P. 638–649. doi: 10.1016/j.jaci.2017.06.032
- Konstantinou G.N, Asero R., Maurer M., et al. EAACI/GA(2)LEN task force consensus report: the autologous serum skin test in urticaria // Allergy. 2009. Vol. 64, N 9. P. 1256–1268. doi: 10.1111/j.1398-9995.2009.02132.x
- Kolkhir P., Borzova E., Grattan C., et al. Autoimmune comorbidity in chronic spontaneous urticaria: A systematic review // Autoimmun Rev. 2017. Vol. 16, N 12. P. 1196–1208. doi: 10.1016/j.autrev.2017.10.003
- Netchiporouk E., Sasseville D., Moreau L., et al. Evaluating comorbidities, natural history, and predictors of early resolution in a cohort of children with chronic urticaria // JAMA Dermatol. 2017. Vol. 153, N 12. P. 1236–1242. doi: 10.1001/jamadermatol.2017.3182
- Silpa-archa N., Kulthanan K., Pinkaew S. Physical urticaria: prevalence, type and natural course in a tropical country // J Eur Acad Dermatol Venereol. 2011. Vol. 25, N 10. P. 1194–1199. doi: 10.1111/j.1468-3083.2010.03951.x
- Maurer M., Abuzakouk M., Bérard F., et al. The burden of chronic spontaneous urticaria is substantial: Real-world evidence from ASSURE-CSU // Allergy. 2017. Vol. 72, N 12. P. 2005–2016. doi: 10.1111/all.13209
- Trevisonno J., Balram B., Netchiporouk E., Ben-Shoshan M. Physical urticaria: Review on classification, triggers and management with special focus on prevalence including a meta-analysis // Postgrad Med. 2015. Vol. 127, N 6. P. 565–570. doi: 10.1080/00325481.2015.1045817
- Weller K., Groffik A., Church M.K., et al. Development and validation of the Urticaria Control Test: a patient-reported outcome instrument for assessing urticaria control // J Allergy Clin Immunol. 2014. Vol. 133, N 5. P. 1365–1372. doi: 10.1016/j.jaci.2013.12.1076
- Folci M., Heffler E., Canonica G.W., et al. Cutting edge: biomarkers for chronic spontaneous urticaria // J Immunol Res. 2018, N 2018. P. 5615109. doi: 10.1155/2018/5615109
- Guillén-Aguinaga S., Jáuregui Presa I., Aguinaga-Ontoso E., et al. Updosing nonsedating antihistamines in patients with chronic spontaneous urticaria: a systematic review and meta-analysis // Br J Dermatol. 2016. Vol. 175, N 6. P. 1153–1165. doi: 10.1111/bjd.14768
- Conlon N.P., Edgar J.D. Adherence to best practice guidelines in chronic spontaneous urticaria (CSU) improves patient outcome // Eur J Dermatol. 2014. Vol. 24, N 3. P. 385–386. doi: 10.1684/ejd.2014.2323
- Kaplan A.P., Giménez-Arnau A.M., Saini S.S. Mechanisms of action that contribute to efficacy of omalizumab in chronic spontaneous urticaria // Allergy. 2017. Vol. 72, N 4. P. 519–533. doi: 10.1111/all.13083
- MacGlashan D.W., Bochner B.S., Adelman D.C., et al. Down-regulation of Fc(epsilon)RI expression on human basophils during in vivo treatment of atopic patients with anti-IgE antibody // J Immunol. 1997. Vol. 158, N 3. P. 1438–1445.
- Beck L.A., Marcotte G.V., MacGlashan D., et al. Omalizumab-induced reductions in mast cell Fce psilon RI expression and function // J Allergy Clin Immunol. 2004. Vol. 114, N 3. P. 527–530. doi: 10.1016/j.jaci.2004.06.032
- MacGlashan D.J., Xia H.Z., Schwartz L.B., Gong J. IgE-regulated loss, not IgE-regulated synthesis, controls expression of FcepsilonRI in human basophils // J Leukoc Biol. 2001. Vol. 70, N 2. P. 207–218.
- Saini S.S., Bindslev-Jensen C., Maurer M., et al. Efficacy and safety of omalizumab in patients with chronic idiopathic/spontaneous urticaria who remain symptomatic on H1 antihistamines: a randomized, placebo-controlled study // J Invest Dermatol. 2015. Vol. 135, N 1. P. 67–75. doi: 10.1038/jid.2014.306
- Gericke J., Metz M., Ohanyan T., et al. Serum autoreactivity predicts time to response to omalizumab therapy in chronic spontaneous urticaria // J Allergy Clin Immunol. 2017. Vol. 139, N 3. P. 1059–1061.e1. doi: 10.1016/j.jaci.2016.07.047
- Eggel A., Baravalle G., Hobi G., et al. Accelerated dissociation of IgE-FcεRI complexes by disruptive inhibitors actively desensitizes allergic effector cells // J Allergy Clin Immunol. 2014. Vol. 133, N 6. P. 1709–1719.e8. doi: 10.1016/j.jaci.2014.02.005
- Serrano-Candelas E., Martinez-Aranguren R., Valero A., et al. Comparable actions of omalizumab on mast cells and basophils // Clin Exp Allergy. 2016. Vol. 46, N 1. P. 92–102. doi: 10.1111/cea.12668
- Jacques P., Lavoie A., Bédard P.M., et al. Chronic idiopathic urticaria: profiles of skin mast cell histamine release during active disease and remission // J Allergy Clin Immunol. 1992. Vol. 89, N 6. P. 1139–1143. doi: 10.1016/0091-6749(92)90297-f
- Bédard P.M., Brunet C., Pelletier G., Hébert J. Increased compound 48/80 induced local histamine release from nonlesional skin of patients with chronic urticaria // J Allergy Clin Immunol. 1986. Vol. 78, N 6. P. 1121–1125. doi: 10.1016/0091-6749(86)90260-5
- Noga O., Hanf G., Brachmann I., et al. Effect of omalizumab treatment on peripheral eosinophil and T-lymphocyte function in patients with allergic asthma // J Allergy Clin Immunol. 2006. Vol. 117, N 6. P. 1493–1499. doi: 10.1016/j.jaci.2006.02.028
- Maurer M., Altrichter S., Bieber T., et al. Efficacy and safety of omalizumab in patients with chronic urticaria who exhibit IgE against thyroperoxidase // J Allergy Clin Immunol. 2011. Vol. 128, N 1. P. 202–209.e5. doi: 10.1016/j.jaci.2011.04.038
- Saini S., Rosen K.E., Hsieh H.J., et al. A randomized, placebo-controlled, dose-ranging study of single-dose omalizumab in patients with H1-antihistamine-refractory chronic idiopathic urticaria // J Allergy Clin Immunol. 2011. Vol. 128, N 3. P. 567–573.e1. doi: 10.1016/j.jaci.2011.06.010
- Maurer M., Rosén K., Hsieh H.J., et al. Omalizumab for the treatment of chronic idiopathic or spontaneous urticaria // N Engl J Med. 2013. Vol. 368, N 10. P. 924–935. doi: 10.1056/NEJMoa1215372
- Kaplan A., Ledford D., Ashby M., et al. Omalizumab in patients with symptomatic chronic idiopathic/spontaneous urticaria despite standard combination therapy // J Allergy Clin Immunol. 2013. Vol. 132, N 1. Р. 101–109. doi: 10.1016/j.jaci.2013.05.013
- Zhao Z.T., Ji C.M., Yu W.J., et al. Omalizumab for the treatment of chronic spontaneous urticaria: A meta-analysis of randomized clinical trials // J Allergy Clin Immunol. 2016. Vol. 137, N 6. P. 1742–1750.e4. doi: 10.1016/j.jaci.2015.12.1342
- Tharp M.D., Bernstein J.A., Kavati A., et al. Benefits and harms of omalizumab treatment in adolescent and adult patients with chronic idiopathic (Spontaneous) urticaria: a meta-analysis of “Real-world” evidence // JAMA Dermatol. 2019. Vol. 155, N 1. P. 29–38. doi: 10.1001/jamadermatol.2018.3447
- Asero R., Canonica G.W., Cristaudo A., et al. Critical appraisal of the unmet needs in the treatment of chronic spontaneous urticaria with omalizumab: an Italian perspective // Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2017. Vol. 17, N 6. P. 453–459. doi: 10.1097/ACI.0000000000000404
- Casale T.B., Murphy T.R., Holden M., et al. Impact of omalizumab on patient-reported outcomes in chronic idiopathic urticaria: Results from a randomized study (XTEND-CIU) // J Allergy Clin Immunol Pract. 2019. Vol. 7, N 7. P. 2487–2490.e1. doi: 10.1016/j.jaip.2019.04.020
- Vadasz Z., Tal Y., Rotem M., et al. Israeli Forum for investigating and treating Chronic Spontaneous Urticaria (CSU). Omalizumab for severe chronic spontaneous urticaria: Real-life experiences of 280 patients // J Allergy Clin Immunol Pract. 2017. Vol. 5, N 6. P. 1743–1745. doi: 10.1016/j.jaip.2017.08.035
- Staubach P., Metz M., Chapman-Rothe N., et al. Effect of omalizumab on angioedema in H1 -antihistamine-resistant chronic spontaneous urticaria patients: results from X-ACT, a randomized controlled trial // Allergy. 2016. Vol. 71, N 8. P. 1135–1144. doi: 10.1111/all.12870
- Metz M., Vadasz Z., Kocatürk E., Giménez-Arnau A.M. Omalizumab updosing in chronic spontaneous urticaria: an overview of real-world evidence // Clin Rev Allergy Immunol. 2020. Vol. 59, N 1. P. 38–45. doi: 10.1007/s12016-020-08794-6
- Türk M., Carneiro-Leão L., Kolkhir P., et al. How to treat patients with chronic spontaneous urticaria with omalizumab: questions and answers // J Allergy Clin Immunol Pract. 2020. Vol. 8, N 1. P. 113–124. doi: 10.1016/j.jaip.2019.07.021
- Kulthanan K., Tuchinda P., Likitwattananurak C., et al. Does omalizumab modify a course of recalcitrant chronic spontaneous urticaria? A retrospective study in Asian patients // J Dermatol. 2018. Vol. 45, N 1. P. 17–23. doi: 10.1111/1346-8138.14081
- Maurer M., Giménez-Arnau A., Ensina L.F., et al. Chronic urticaria treatment patterns and changes in quality of life: AWARE study 2-year results // World Allergy Organ J. 2020. Vol. 13, N 9. P. 100460. doi: 10.1016/j.waojou.2020.100460
- Kocatürk E., Maurer M., Metz M., Grattan C. Looking forward to new targeted treatments for chronic spontaneous urticaria // Clin Transl Allergy. 2017. Vol. 7. P. 1. doi: 10.1186/s13601-016-0139-2
- Arm J.P., Bottoli I., Skerjanec A., et al. Pharmacokinetics, pharmacodynamics and safety of QGE031 (ligelizumab), a novel high-affinity anti-IgE antibody, in atopic subjects // Clin Exp Allergy. 2014. Vol. 44, N 11. P. 1371–1385. doi: 10.1111/cea.12400
- Gasser P., Tarchevskaya S.S., Guntern P., et al. The mechanistic and functional profile of the therapeutic anti-IgE antibody ligelizumab differs from omalizumab // Nat Commun. 2020. Vol. 11, N 1. P. 165. doi: 10.1038/s41467-019-13815-w
- Angst D., Gessier F., Janser P., et al. Discovery of LOU064 (Remibrutinib), a potent and highly selective covalent inhibitor of bruton’s tyrosine kinase // J Med Chem. 2020. Vol. 63, N 10. P. 5102–5118. doi: 10.1021/acs.jmedchem.9b01916
- Nutku E., Aizawa H., Hudson S.A., Bochner B.S. Ligation of Siglec-8: a selective mechanism for induction of human eosinophil apoptosis // Blood. 2003. Vol. 101, N 12. P. 5014–5020. doi: 10.1182/blood-2002-10-3058
- Yokoi H., Choi O.H., Hubbard W., et al. Inhibition of FcepsilonRI-dependent mediator release and calcium flux from human mast cells by sialic acid-binding immunoglobulin-like lectin 8 engagement // J Allergy Clin Immunol. 2008. Vol. 121, N 2. P. 499–505.e1. doi: 10.1016/j.jaci.2007.10.004
Дополнительные файлы