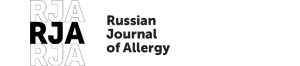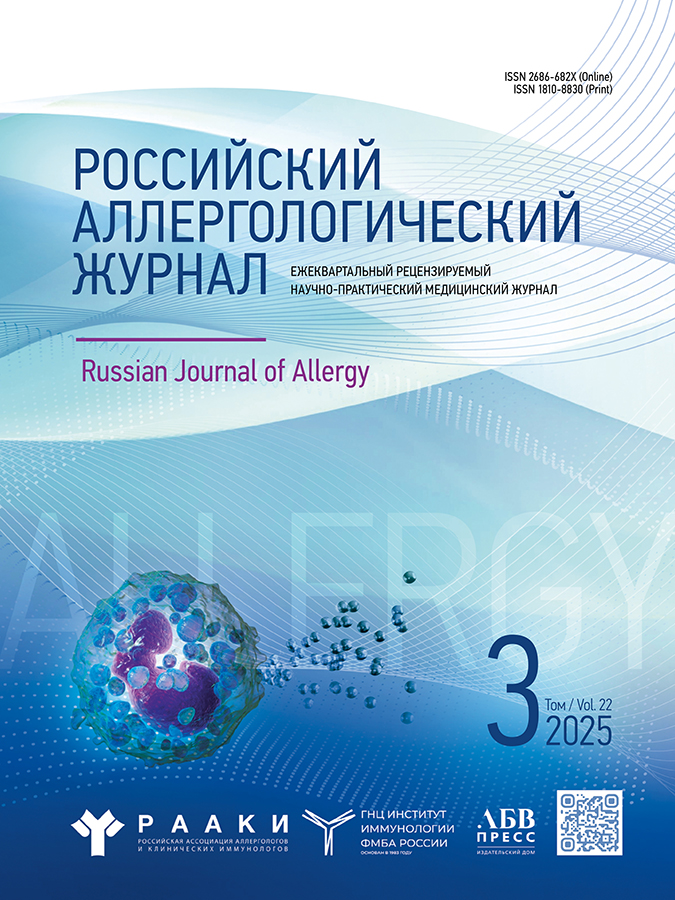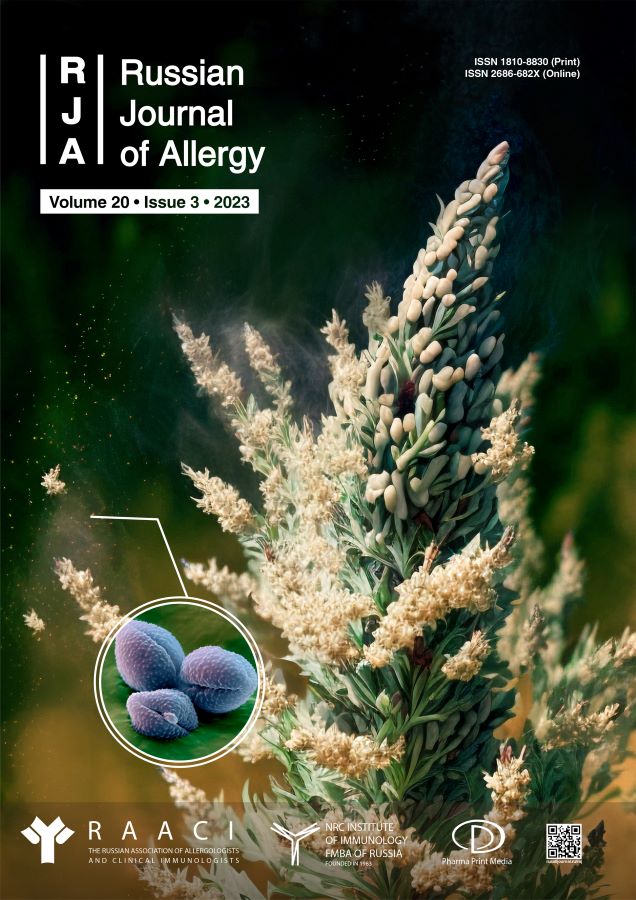Natural history of food allergy in high-risk infants in a cohort prospective study
- Authors: Prokopyeva V.D.1, Fedotova M.M.1, Kutas U.V.1, Nevskaya K.V.1, Morozov K.R.1, Fedorova O.S.1, Mankovskaya T.P.2
-
Affiliations:
- Siberian State Medical University
- Regional Perinatal Center named after I.D. Yevtushenko
- Issue: Vol 20, No 3 (2023)
- Pages: 287-298
- Section: Original studies
- Submitted: 26.06.2023
- Accepted: 31.08.2023
- Published: 18.10.2023
- URL: https://rusalljournal.ru/raj/article/view/13210
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA13210
- ID: 13210
Cite item
Full Text
Abstract
BACKGROUND: The problem of food allergy remains actual in pediatric practice.
AIM: to establish the prevalence, clinical features and risk factors of food allergy in infants predisposed to allergy diseases in a cohort prospective study with a follow-up period of 12 months.
MATERIALS AND METHODS: A prospective cohort study in children whose parents suffer from allergic diseases (n=151) was initiated. Prospective observation included: clinical examination at birth and at the age of 3, 9, 12 months, interviewing parents, assessment of allergen-specific IgE to food allergens in blood serum at the age of 12 months. Statistical analysis was performed using STATISTICA 13.3.
RESULTS: 141 children completed the prospective follow-up. Suspected food allergy (reactions associated with the use of food products) was registered in 48.9% of predisposed children. The symptoms of food allergy include skin lesions and gastrointestinal symptoms. Oral allergic syndrome and respiratory symptoms were recorded only in some cases. Prevalence of suspected food allergy progressively increase by 12 months, mainly due to skin symptoms, while the prevalence of gastrointestinal symptoms, on the contrary, decreased by this age. Mixed feeding was recognized as a risk factor for suspected food allergy in predisposed children. The prevalence of IgE ― mediated food allergy, was 13.9%. The use of antibiotics in the first year of life was shown as risk factor for IgE-mediated food allergy in predisposed children. Multivariate logistic regression showed that pets (cats) owners had lower risk of food allergy.
CONCLUSION: Primary allergy prevention and adherence to the principles of rational antibiotic therapy is necessary in children predisposed to allergic diseases.
Keywords
Full Text
ОБОСНОВАНИЕ
Пищевая аллергия занимает одну из лидирующих позиций в структуре заболеваний раннего детского возраста, представляя тем самым важнейшую проблему педиатрии [1]. В 60% случаев симптомы пищевой аллергии приходятся на первый год жизни. Формирование пищевой сенсибилизации в раннем возрасте оказывает влияние на последующее развитие таких аллергических заболеваний, как атопический дерматит и бронхиальная астма [2, 3]. Когортные проспективные исследования являются приоритетными в изучении естественного течения и факторов риска аллергических заболеваний у детей благодаря возможности наблюдения за ребёнком от рождения до возраста появления первых клинических проявлений [4].
Развитие пищевой аллергии у детей связано, в первую очередь, с наследственной атопической предрасположенностью. Так, при наличии пищевой аллергии у одного из родителей вероятность развития аллергических заболеваний у ребёнка составляет 25%; в случае если пищевая аллергия наблюдается у обоих родителей, риск развития аллергопатологии у ребёнка возрастает до 40–60% [5]. В то же время генетический риск формирования аллергических заболеваний может модифицироваться под влиянием различных факторов внешней среды [6]. Так, к факторам, ассоциированным с меньшим риском развития аллергических заболеваний, относятся грудное вскармливание, проживание в сельской местности, наличие в семье старших братьев и сестёр [7]. Неблагоприятными факторами, сопряжёнными с более высокой вероятностью формирования аллергических болезней, являются осложнённое течение беременности и родов, родоразрешение путём кесарева сечения, наличие соматической патологии у матери, искусственное вскармливание, раннее введение прикорма [5].
Цель исследования ― установить распространённость, клинические особенности и факторы риска пищевой аллергии у детей группы риска в рамках когортного проспективного исследования с продолжительностью наблюдения 12 месяцев.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Проведено наблюдательное многоцентровое проспективное сплошное неконтролируемое исследование (рис. 1).
Рис. 1. Дизайн исследования (где V1–5 ― порядковый номер визита).
Fig. 1. Study design (V1–5 ― sequential number of the session).
Критерии соответствия
Критерии включения. В исследование включены здоровые доношенные новорождённые, рождённые от родителей, страдающих аллергическими заболеваниями (n=151). Обязательным критерием включения являлось наличие документально подтверждённых аллергических заболеваний у одного из родителей (бронхиальная астма, атопический дерматит, пищевая аллергия, аллергический ринит, острая аллергическая крапивница и ангионевротический отёк в анамнезе), а также наличие информированного согласия на участие в исследовании, подписанного родителями.
Критерии исключения. Клинически значимые неконтролируемые состояния или заболевания, которые, по мнению исследователей, могли повлиять на участие пациента в исследовании и/или проведение каких-либо процедур и/или интерпретацию результатов, являлись обязательным критерием исключения для пациентов обеих групп.
Условия проведения
Рекрутирование пациентов проводилось сплошным методом в ОГАУЗ «Областной перинатальный центр имени И.Д. Евтушенко» (Томск). Проспективное наблюдение осуществлялось на базе детской клиники ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России (Томск).
Продолжительность исследования
Рекрутизация участников исследования проведена в период с октября 2018 по сентябрь 2021 года.
Описание медицинского вмешательства
Выполнено проспективное наблюдение сформированной когорты пациентов до достижения возраста 12 месяцев. В течение данного периода были предусмотрены следующие визиты: на 2–4-е сутки после рождения ребёнка, затем в 3, 9, 12 месяцев. В ходе физикального обследования особое внимание уделяли возможным проявлениям пищевой аллергии (состоянию кожных покровов, наличию высыпаний, сухости кожных покровов, опрелостей, гастроинтестинальных проявлений). Все участники исследования в ходе наблюдения получали врачебные рекомендации по уходу, питанию, а при необходимости ― по диагностике и лечению тех или иных патологических изменений, обнаруженных в ходе визита.
Основной исход исследования
В соответствии с критериями включения и исключения, предусмотренными протоколом, в проспективное когортное исследование включены дети (n=151), проживающие в Томске и Томской области. Завершил исследование 141 человек, 108 детям проведён анализ уровня антител изотипа IgE к пищевым аллергенам.
Анализ в подгруппах
В сформированной выборке изучены различные клинические параметры: особенности акушерского анамнеза, характер питания детей; проведён анализ симптомов пищевой аллергии, включая возраст манифестации и особенности клинических проявлений; изучено влияние различных средовых факторов, способных модифицировать наследственный риск развития пищевой аллергии.
Методы регистрации исходов
Клинические методы включали в себя анализ анамнестических данных, результатов клинического наблюдения в течение первых 12 месяцев, данных клинического опросника для оценки факторов риска пищевой аллергии, анализ медицинской документации (обменных и амбулаторных карт).
Использован аллергологический метод оценки уровня аллергенспецифического IgE (диагностическим считался уровень аллергенспецифического IgE >0,35 кЕ/л) к следующим пищевым аллергенам: коровьему молоку, куриному яйцу, пшенице, сое, арахису, смеси орехов, рыбе, креветкам (Алкор-Био, Россия).
Диагностика пищевой аллергии проведена в соответствии с алгоритмами, рекомендованными Союзом педиатров России [2]. В целях стандартизации результатов различных этапов эпидемиологического исследования использованы следующие термины:
- «предполагаемая пищевая аллергия»: наличие в клиническом вопроснике респондента ответа «Да» на вопрос «Были ли у вашего ребёнка какие-либо реакции, связанные с продуктами питания?» в сочетании с указанием любого продукта питания в рационе ребёнка или в рационе питания кормящей матери и наличием симптомов пищевой аллергии;
- «подтверждённая пищевая аллергия»: наличие симптомов пищевой аллергии и сенсибилизации к продуктам питания, подтверждённой содержанием аллергенспецифического IgE (≥0,35 кЕдА/л в сыворотке крови).
Этическая экспертиза
Протокол исследования № 6896 одобрен локальным этическим комитетом ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава России от 29.10.2018.
Статистический анализ
Для статистической обработки данных использовали пакет прикладных программ Statistica for Windows version 13.3. Качественные данные представлены в виде абсолютных или относительных частот (%), количественные ― в виде М±m, где М ― среднее арифметическое, m ― стандартное отклонение. Проверку на нормальность распределения признаков осуществляли с использованием критерия Шапиро–Уилка. Качественные данные представлены в виде абсолютных или относительных (%) частот, количественные ― в виде М±m при нормальном распределении (где М ― среднее арифметическое, m ― стандартное отклонение) и медианы (Me) и интерквартильного размаха (Q25; Q75) при распределении, отличном от нормального. Вероятность развития признака определялась методом расчёта отношения шансов и представлена в виде OR (95% доверительный интервал, 95% ДИ). Для оценки факторов риска пищевой аллергии использовали одномерную и многомерную логистическую регрессию с пошаговым включением предикторов (факторов) риска.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Объекты (участники) исследования
В исследование включены здоровые доношенные дети, родители которых страдают аллергическими заболеваниями (n=151) (табл. 1). Большинство детей родились путём естественных родов, менее половины детей ― в результате кесарева сечения.
Таблица 1. Характеристика участников исследования при рождении (n=151)
Table 1. Characteristics of study participants at birth (n=151)
Показатели | Участники исследования |
Мальчики, n (%) Девочки, n (%) | 79 (52,3) 72 (47,6) |
Антропометрические данные | |
Масса тела при рождении, г | 3030±465 |
Длина тела при рождении, см | 51±2,8 |
Данные акушерского анамнеза | |
Средний срок гестации, нед | 38,5±1,3 |
Зачатие путём вспомогательных репродуктивных технологий, n (%) | 24 (15,8) |
Родоразрешение путём кесарева сечения, n (%) Экстренное, n (%) Плановое, n (%) | 63 (41,7) 43 (68,2) 20 (31,7) |
Средний возраст матери, лет | 31 (27; 34) |
Согласно критериям включения, все дети имели отягощённый наследственный анамнез по аллергическим заболеваниям (бронхиальная астма, атопический дерматит, пищевая аллергия, аллергический ринит, острая аллергическая крапивница и ангионевротический отёк в анамнезе), чаще определяемым по отцовской линии (табл. 2). Установлено, что в 14 (9,2%) случаях из 151 аллергическое заболевание имелось сразу у обоих родителей. В структуре аллергических заболеваний преобладал аллергический ринит (как у мамы, так и у папы); у 4 родителей отмечалось сочетание бронхиальной астмы и аллергического ринита, у 1 человека в анамнезе отмечался эпизод анафилаксии в связи с употреблением креветок. В данной выборке 56 детей имели сибса(-ов) с установленным аллергическим заболеванием.
Таблица 2. Наличие аллергопатологии у ближайших родственников пациентов в выборке (n=151)
Table 2. Presence of allergic pathology of relatives in sample (n=151)
Степень родства | Пищевая аллергия, n (%) | Атопический дерматит, n (%) | Аллергический ринит, n (%) | Бронхиальная астма, n (%) |
Отец | 45 (29,8) | 34 (22,5) | 67 (44,3) | 5 (3,3) |
Мать | 56 (37,1) | 28 (18,5) | 63 (41,7) | 3 (1,9) |
Сибсы | 8 (5,2) | 23 (15,2) | 16 (10,5) | 9 (5,9) |
Учитывая важность характера вскармливания для последующего развития гиперчувствительности к пищевым аллергенам, были проанализированы особенности питания детей (табл. 3). Так, подавляющее большинство новорождённых (88,1%) были приложены к груди сразу после рождения. Исключительно грудное вскармливание в раннем послеродовом периоде получали 87,4% детей, 5,2% получали докорм в виде адаптированной смеси, 7,2% ― искусственное вскармливание; 0,66% матерей кормили ребёнка сцеженным грудным молоком из бутылочки. Парентерального, зондового питания, а также вскармливания донорским молоком не было ни у одного из участников исследования.
Таблица 3. Особенности питания участников проспективного исследования
Table 3. Nutritional characteristics of participants in a prospective study
Показатель | Выборка, n=141 |
Средняя продолжительность грудного вскармливания, Ме (Q1; Q3), мес | 12 (11; 12) |
Продолжительность исключительно грудного вскармливания, Ме (Q1; Q3), мес | 5 (4; 6) |
Искусственное вскармливание, n (%) | 13 (9,2) |
Введение адаптированных смесей в рацион (смешанное вскармливание), n (%) | 52 (36,9) |
Анализ характера вскармливания среди детей, завершивших исследование (n=141), показал, что большинство детей получали грудное вскармливание до 12 месяцев (92,7%) и более половины указали наличие исключительно грудного вскармливания до 4 месяцев (см. табл. 3). Около 1/3 обследованных пациентов отметили введение адаптированных смесей в рацион питания в дополнение к грудному вскармливанию. Искусственное вскармливание отмечено только у 7,2% детей.
Основные результаты исследования
Распространённость предполагаемой пищевой аллергии. К возрасту 12 месяцев исследование завершил 141 участник, или 93,3% от общего числа детей, включённых в исследование; 10 детей не завершили проспективное наблюдение в связи со сменой места жительства (n=4), сменой контактных данных (n=4), отказом участвовать в исследовании (n=2).
В ходе проспективного наблюдения изучалось естественное течение пищевой аллергии и оценивалось наличие симптомов, связанных с употреблением пищевых продуктов.
Реакции на употребление одного или более продуктов питания за весь период наблюдения отмечались у 69 (48,9%) детей. В 10% случаев родители не могли указать конкретный продукт, который спровоцировал развитие тех или иных симптомов. В остальных случаях триггерами пищевых реакций являлись, как правило, продукты так называемой большой восьмёрки аллергенов: молоко (21,7%), яйцо (15,9%), злаки, пшеница (по 10,1%), орехи (2,8%) и рыба (2,8%). В качестве более редких причин пищевой непереносимости регистрировались овощи (кабачок ― 4,3%, картофель ― 2,8%, тыква ― 2,8%, морковь ― 2,8%), фрукты (яблоко ― 8,6%, банан ― 5,7%, апельсин, груша, манго, персик ― по 4,3%). Единичные реакции отмечены также на чернослив, киви, говядину, курицу, сельдерей.
Основными симптомами пищевой аллергии выступали кожные проявления и значительно реже ― гастроинтестинальные симптомы. В единичных случаях у детей в возрасте 12 месяцев регистрировались оральный аллергический синдром (у 2) и обструктивные проявления при употреблении рыбы (у 1). Средний возраст манифестации первых кожных симптомов составил 3,1±1,5 месяца. Количество пациентов с поражением кожи было минимальным в 3 месяца, но в ходе проспективного наблюдения постепенно возрастало. У 6 детей, отмечавших кожные реакции на пищевые продукты в 3 и 6 месяцев, в возрасте 12 месяцев указанных симптомов не наблюдалось. В качестве клинических проявлений со стороны кожи регистрировались эритематозные, эритематозно-сквамозные, папулёзные высыпания; отмечались экскориации, жалобы на зуд. Почти у половины пациентов (46,8%) регистрировалась общая сухость кожи. Стоит отметить, что чаще у детей встречались эритематозные высыпания кожи и сохранялись до возраста 12 месяцев, при этом высыпания с мокнутием отмечались в единичных случаях, а в возрасте 12 месяцев не отмечались (табл. 4). Атопический дерматит диагностирован у 9 детей из всей когорты. Распределение детей по тяжести атопического дерматита было следующим: 1 ребёнок с тяжёлым течением (индекс SCORAD 61,4±1,7 баллов); 3 детей со среднетяжёлым течением (индекс SCORAD 34,02±1,52 балла) и 5 детей с лёгким течением (индекс SCORAD 11,34±1,37 баллов).
Таблица 4. Особенности кожных и гастроинтестинальных проявлений пищевой аллергии в ходе проспективного исследования, n (%)
Table 4. Features of skin and gastrointestinal manifestations of food allergy prospective study, n (%)
Симптомы | 3 мес | 9 мес | 12 мес |
Кожные симптомы | |||
Эритематозные высыпания | 27 (90) | 32 (82) | 51 (85) |
Эритематозные высыпания с мокнутием | 3 (10) | 2 (5) | - |
Папулёзные высыпания | 18 (60) | 25 (64) | 33 (55) |
Экскориации | 7 (23,3) | 12 (30,7) | 17 (28,3) |
Всего | 30 (21) | 39 (28,2) | 60 (42,5) |
Гастроинтестинальные симптомы | |||
Кровь и/или слизь | 21 (87,5) | 9 (56,2) | 1 (12,5) |
Запоры | 9 (37,5) | 13 (81,2) | 7 (87,5) |
Метеоризм, вздутие | 14 (58,3) | - | - |
Всего | 24 (15,9) | 16 (10,5) | 8 (5,2) |
Гастроинтестинальные симптомы регистрировались значительно реже кожных проявлений, однако манифестировали несколько раньше ― в 1,9±2,1 месяцев. Важно учитывать, что проявления пищевой аллергии со стороны желудочно-кишечного тракта неспецифичны: неустойчивый стул с непереваренными остатками и слизью, иногда с прожилками крови, метеоризм, вздутие живота, обильные и частые срыгивания, беспокойство. Для детей раннего возраста характерен ряд транзиторных состояний кишечного тракта, клинически сходных с симптомами пищевой аллергии. Также достаточно сложно проследить связь приёма определённого продукта питания в рационе питания матери и последующего развития симптомов у ребёнка в связи с ранним возрастом детей. При сборе клинических данных учитывалась связь с употреблением тех или иных продуктов, а также связь с другими проявлениями пищевой аллергии. Так, отмечено, что гастроинтестинальные симптомы практически всегда сопровождались поражением кожи, при этом кожные проявления либо манифестировали одновременно с поражением желудочно-кишечного тракта, либо развивались через некоторое время. Важно отметить высокую распространённость симптомов в первые 3 месяца жизни и постепенное снижение частоты указанных симптомов в обеих группах к 12 месяцам. Данный факт можно объяснить созреванием иммунологической системы и формированием иммунологической толерантности к пищевым продуктам.
Таким образом, распространённость симптомов пищевой аллергии прогрессивно увеличивается к 12 месяцам, преимущественно за счёт кожных проявлений (рис. 2). Распространённость гастроинтестинальных симптомов, напротив, снижается к этому же возрасту. Клинические проявления другого характера, такие как оральный аллергический синдром, респираторные симптомы, встречаются в данной возрастной группе в единичных случаях.
Рис. 2. Распространённость предполагаемой пищевой аллергии.
Fig. 2. Prevalence suspected food allergies.
Распространённость подтверждённой пищевой аллергии. Аллергологическое исследование проведено 108 детям; у 33 детей анализ крови не выполнен в связи с нежеланием родителей подвергать ребёнка болезненной процедуре либо в связи техническими сложностями. По результатам аллергологического исследования наличие пищевой сенсибилизации установлено у 28 (25,9%) пациентов. В структуре пищевой сенсибилизации ведущими являлись аллергены коровьего молока и куриного яйца (табл. 5).
Таблица 5. Структура сенсибилизации
Table 5. Structure of sensitization
Аллерген | n (%) |
Коровье молоко | 14 (50) |
Куриное яйцо (цельное) | 16 (57,1) |
Соя | 1 (3,5) |
Рыба (треска) | 0 |
Смесь орехов | 1 (3,5) |
Арахис | 3 (10,7) |
Пшеница | 2 (7,1) |
Креветка | 1 (3,5) |
Всего | 28 (25,9) |
По результатам проведённого обследования, распространённость подтверждённой пищевой аллергии (сочетание симптомов пищевой аллергии с повышением уровня аллергенспецифического IgE ≥0,35 кЕдА/л в сыворотке крови к пищевым аллергенам) составила 13,9% (n=15). Среди детей с установленным ранее диагнозом атопического дерматита (n=9) наличие пищевой сенсибилизации (белок коровьего молока, курное яйцо) установлено у 4 пациентов. Характерно, что наличие сенсибилизации к пищевым аллергенам отмечено у лиц с тяжёлыми и среднетяжёлыми проявлениями дерматита.
Факторы риска развития пищевой аллергии. Проведён анализ факторов, ассоциированных с развитием предполагаемой и подтверждённой пищевой аллергии, с целью установить дополнительные факторы, которые могут оказывать влияние на реализацию генетической предрасположенности к аллергическим заболеваниям. Так, статистически значимым фактором риска развития предполагаемой пищевой аллергии у предрасположенных детей являлось наличие смешанного вскармливания (табл. 6). При этом 92,4% детей, находившихся на смешанном вскармливании, получали смеси на основе негидролизованного белка коровьего молока и только 7,6% наблюдаемых ― гипоаллергенные смеси, которые показаны данной категории пациентов для первичной профилактики аллергических заболеваний [8]. Таким образом, несоблюдение мероприятий первичной профилактики аллергических заболеваний у детей групп риска является основным фактором, ассоциированным с развитием симптомов пищевой аллергии.
Таблица 6. Факторы риска предполагаемой и подтверждённой пищевой аллергии, установленные в ходе проспективного когортного исследования
Table 6. Risk factors of alleged and confirmed food allergy identified in a prospective cohort study
Фактор риска | Предполагаемая ПА | Подтверждённая ПА | |||||||
Наличие предполагаемой ПА, n=69 (%) | Однофакторный анализ | Наличие подтверждённой ПА, n=15 (%) | Однофакторный анализ | Многофакторный анализ | |||||
OR (CI) | p | OR (CI) | p | OR (CI) | p | ||||
Наличие домашних животных (кошки) | Нет Да | 27/56 (48,2) 42/85 (49,4) | 1,0 (0,53–2,06) | 0,9 | 9/44 (20,5) 6/64 (9,4) | 0,4 (0,13–1,23) | 0,10 | 0,21 (0,06–0,79) | 0,02* |
Применение антибиотиков на первом году жизни ребёнка | Нет Да | 40/88 (45,5) 29/53 (54,7) | 1,4 (0,73–2,87) | 0,3 | 5/62 (8,1) 10/46 (21,7) | 3,2 (1,01–10,2) | 0,04* | 3,66 (1,03–12,9) | 0,04* |
Приём витамина D | Нет Да | 12/24 (50,0) 57/117 (48,6) | 0,9 (0,39–2,29) | 0,91 | 4/15 (26,7) 11/93 (11,8) | 0,37 (0,1–1,36) | 0,13 | 0,24 (0,05–1,08) | 0,06 |
Наличие домашних животных | Нет Да | 19/44 (43,2) 50/97 (51,5) | 1,4 (0,68–2,86) | 0,4 | 6/34 (17,6) 9/74 (13,5) | 0,6 (0,21–1,98) | 0,44 | - | - |
Смешанное вскармливание | Нет Да | 37/89 (41,6) 32/52 (61,5) | 2,3 (1,17–4,32) | 0,02* | 6/58 (10,3) 8/42 (19,0) | 2,0 (0,65–6,39) | 0,21 | - | - |
Кесарево сечение | Нет Да | 34/76 (44,7) 35/65 (53,8) | 1,4 (0,74–2,80) | 0,28 | 8/58 (13,8) 7/50 (14,0) | 1,0 (0,34–3,04) | 0,99 | - | - |
Проживание в сельской местности | Нет Да | 39/80 (48,8) 30/61 (49,2) | 1,0 (0,52–1,98) | 0,96 | 9/58 (15,5) 6/50 (12,0) | 0,7 (0,25–2,25) | 0,57 | - | - |
Наличие аллергических заболеваний у обоих родителей | Нет Да | 59/127 (46,5) 10/14 (71,4) | 2,8 (0,86–9,76) | 0,07 | 15/97 (15,5) 0/11 (0,0) | - | - | - | - |
Примечание. * Показатели, достигшие статистической значимости. ПА ― пищевая аллергия.
Note: * Indicators that have reached statistical significance. ПА ― food allergy.
Фактором, положительно ассоциированным с развитием подтверждённой пищевой аллергии у детей с отягощённым анамнезом, является применение антибиотиков на первом году жизни (см. табл. 6). В ходе многофакторного регрессионного анализа показано также, что наличие домашних животных (кошек) сопряжено с меньшим риском развития пищевой аллергии у детей из групп риска. Регулярное применение витамина D также ассоциировано с меньшим риском развития пищевой аллергии, однако показатели не достигают статистической значимости в нашем исследовании (см. табл. 6).
Резюме основного результата исследования
В ходе проведённого исследования изучены особенности естественного течения и факторы риска пищевой аллергии у детей с наследственной предрасположенностью к аллергическим заболеваниям. Отмечено, что гастроинтестинальные симптомы пищевой аллергии манифестируют раньше, чем кожные проявления. Характерной особенностью естественного течения пищевой аллергии является прогрессивное увеличение распространённости симптомов к 12 месяцам, преимущественно за счёт кожных проявлений. Распространённость гастроинтестинальных симптомов, напротив, снижается к этому же возрасту. Наличие предполагаемой пищевой аллергии диагностировано у 48,9% детей из группы риска.
Пищевая аллергия, подтверждённая наличием антител к пищевым аллергенам, диагностирована у 13,9% детей с наследственной предрасположенностью. Фактором, статистически значимо ассоциированным с развитием симптомов пищевой аллергии у детей, было наличие смешанного вскармливания, преимущественно смесями на основе негидролизованного белка коровьего молока. Развитие подтверждённой пищевой аллергии в этой же группе ассоциировано с применением антибиотиков на первом году жизни, а наличие домашних животных (кошек), по данным множественной логистической регрессии, сопряжено с меньшим риском развития пищевой аллергии у детей из групп риска.
ОБСУЖДЕНИЕ
В ходе проведённого исследования наличие пищевых реакций отмечено почти у половины детей раннего возраста с наследственной предрасположенностью к аллергическим заболеваниям. В ряде зарубежных исследований также даются высокие показатели у детей из групп риска. Так, в ходе проспективного наблюдения в течение одного года в Финляндии (n=76) развитие симптомов пищевой аллергии отмечалось у 29% детей, рождённых от родителей с атопией [9]. В аналогичном исследовании в Нидерландах (n=957) у 30% детей, рождённых от родителей с положительным аллергоанамнезом, в возрасте двух лет отмечались клинические проявления кожной экземы, а у 10% ― бронхообструктивного синдрома. В ряде публикаций показано, что симптомы, связанные с употреблением пищевых продуктов, возникают у 25–33% детей до 2 лет жизни [7, 8, 10]. Характерно, что в отечественных исследованиях естественного течения пищевой аллергии у детей раннего возраста даны более высокие значения данных показателей. Так, по данным М.С. Треневой [11], распространённость симптомов пищевой аллергии у детей 1 года достигает 45,7%. В другом исследовании распространённость симптомов пищевой аллергии у детей двухлетнего возраста составила 38,9% [12].
В ходе проведённого исследования проанализирована также клиническая характеристика течения пищевой аллергии у детей раннего возраста. Так, отмечено, что распространённость симптомов пищевой аллергии прогрессивно увеличивается к 12 месяцам, преимущественно за счёт кожных проявлений. Распространённость гастроинтестинальных симптомов, напротив, снижается к этому же возрасту. В аналогичных исследованиях показано, что гастроинтестинальные симптомы пищевой аллергии наиболее характерны для детей до 6-месячного возраста, а в более позднем возрасте частота их значительно уменьшается [13, 14]. Важно отметить также, что гастроинтестинальные симптомы пищевой аллергии достаточно сложно клинически дифференцировать от транзиторных нарушений функций желудочного тракта у детей первого года жизни, что затрудняет анализ данных симптомов в группах. У детей раннего возраста возможно сочетание лактазной недостаточности и аллергии к белку коровьего молока [15]. Клинические проявления другого характера, такие как оральный аллергический синдром, респираторные симптомы, встречаются в данной возрастной группе в единичных случаях.
По результатам проведённого нами исследования, распространённость подтверждённой IgE-опосредованной пищевой аллергии в возрасте 12 месяцев составила 13,9%. В ряде исследований, как зарубежных, так отечественных, представлены аналогичные показатели распространённости подтверждённой пищевой аллергии у детей до 3 лет, варьирующие в пределах 13–18% [12, 16, 17]. Необходимо также отметить, что в рамках данного исследования мы изучали наличие IgE-опосредованной пищевой аллергии, подтверждённой наличием антител к пищевым аллергенам, однако причиной развития заболевания могут быть не-IgE-опосредованные реакции, в основе которых лежит механизм клеточного иммунного ответа, распространённость которых в настоящее время мало изучена [2]. В частности, в рамках нашего исследования у 9 пациентов диагностирован атопический дерматит по совокупности клинических признаков и исходя из анамнестической связи клинических проявлений с употреблением пищевых продуктов (коровье молоко, курное яйцо), при этом у 5 пациентов наличия сенсибилизации к указанным пищевым аллергенам не отмечалось.
По результатам проведённого наблюдения выполнен анализ факторов риска, ассоциированных с развитием пищевой аллергии. Учитывая наследственную предрасположенность пациентов к аллергическим заболеваниям, было актуально изучить внешние факторы, которые могут модифицировать наследственный риск. Так, наиболее значимым фактором риска пищевых реакций в группе детей с отягощённым аллергоанамнезом было наличие смешанного вскармливания. Аналогичные данные представлены в одном из отечественных исследований: почти у половины детей до 12 месяцев, находящихся на смешанном вскармливании (47,9%), отмечались симптомы пищевой аллергии [18]. Следует отметить, что большинство наблюдаемых пациентов получали адаптированные смеси, содержащие негидролизованный белок, однако, в соответствии с действующими рекомендациями, в качестве первичной профилактики аллергических заболеваний детям из групп риска рекомендуются гипоаллергенные смеси, содержащие частично гидролизованный белок [2, 3]. В ходе гидролиза молекулы белка утрачивают сенсибилизирующую активность, сохраняя свойства, необходимые для формирования иммунологической толерантности [19]. Полученные данные не позволяют сделать однозначных выводов, однако возможной причиной развития реакций, связанных с употреблением продуктов питания у детей из групп риска, может являться несоблюдение существующих рекомендаций и применение адаптированных смесей с негидролизированным белком [7, 19].
В ходе данного исследования установлено также, что наличие домашних животных (кошек) ассоциировано с меньшей вероятностью развития пищевой аллергии, при этом наличие других домашних животных не показало значимой ассоциации с исследуемыми исходами. Отмечено также, что применение антибиотиков на первом году жизни ребёнка сопряжено с высоким риском развития пищевой аллергии.
Полученные результаты следует рассматривать в контексте «гигиенической гипотезы», согласно которой такие факторы внешней среды, как проживание в сельской местности, наличие домашних животных и старших детей в семье, сопровождаются повышением микробной нагрузки, что в свою очередь стимулирует иммунорегуляторные процессы и приводит к снижению риска развития аллергических заболеваний [6, 17]. Указанные факторы в значительной мере оказывают влияние на микробиотический состав кишечного тракта у детей раннего возраста, что опосредует регуляторное влияние факторов внешней среды на формирование аллергических заболеваний [5, 6].
Интересно отметить также, что применение витамина D ассоциировано с меньшим риском развития пищевой аллергии, однако показатели не достигают статистической значимости в нашем исследовании, хотя есть данные о том, что раннее введение в рацион ребёнка рыбы и витамина D сопровождается более низкими показателями распространённости аллергических заболеваний в более старшем возрасте.
Ограничение исследования
Основным ограничением, характерным для всех проспективных исследований, является мобильность участников исследования: так, часть пациентов не завершили наблюдение в связи со сменой места жительства или сменой контактных данных. Необходимо отметить также, что серьёзным ограничением являлась процедура взятия крови по завершении исследования с целью аллергологического исследования и подтверждения аллергенспецифической сенсибилизации. Родители, дети которых не имели симптомов пищевой аллергии, как правило, отказывались от аллергологического исследования по причине негативной реакции ребёнка на процедуру взятия крови; в некоторых ситуациях проведение анализа крови оказалось технически невозможным. Важно отметить, что в рамках данного исследования верифицировалось наличие только IgE-зависимой пищевой аллергии, в то время как распространённость не-IgE-опосредованных реакций, в основе которых лежит механизм клеточного иммунного ответа, не изучалась.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пищевая аллергия ― заболевание, на развитие которого оказывает влияние множество факторов, основным из которых является наследственная предрасположенность. Проведённое исследование позволило изучить естественное течение и факторы риска пищевой аллергии при наличии отягощённого наследственного анамнеза по аллергическим заболеваниям. Так, у пациентов с наследственной предрасположенностью показана высокая распространённость реакций, связанных с употреблением пищевых продуктов. При этом основным фактором риска предполагаемой пищевой аллергии является смешанное вскармливание. Полученные данные свидетельствуют о важности соблюдения мероприятий первичной профилактики аллергических заболеваний. Показано также, что наличие домашних животных (кошек) и антибиотикотерапия на первом году жизни являются факторами, модулирующими наследственную предрасположенность к аллергическим заболеваниям у детей из групп риска.
Важно подчеркнуть, что все указанные факторы в значительной мере модифицируют состав кишечной микрофлоры, что говорит о необходимости дальнейшего изучения микробиотических факторов развития аллергических заболеваний.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Источник финансирования. Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22-25-00741 (https://rscf.ru/project/22-25-00741/).
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с проведённым исследованием и публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: В.Д. Прокопьева, М.М. Федотова, О.С. Федорова ― концепция и дизайн исследования; В.Д. Прокопьева, М.М. Федотова, У.В. Кутас, К.В. Невская, Т.П. Маньковская ― сбор материала; К.Р. Морозов, В.Д. Прокопьева, М.М. Федотова ― обработка материала, статистический анализ; В.Д. Прокопьева, М.М. Федотова, О.С. Федорова ― написание текста; О.С. Федорова, М.М. Федотова ― редактирование.
Благодарности. Исследовательский коллектив выражает признательность Департаменту здравоохранения Томской области, а также коллективу врачей и главному врачу ОГАУЗ «Областной перинатальный центр имени И.Д. Евтушенко» г. Томска за помощь в рекрутизации пациентов на базе ОПЦ.
ADDITIONAL INFORMATION
Funding source. The study was supported by the Russian Science Foundation grant No. 22-25-00741 (https://rscf.ru/project/22-25-00741/).
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. V.D. Prokopiev, M.M. Fedotova, O.S. Fedorova ― concept and design of the study; V.D. Prokopiev, M.M. Fedotova, U.V. Kutas, K.V. Nevskaya, T.P. Mankovskaya ― collection of material; K.R. Morozov, V.D. Prokopyeva, M.M. Fedotova ― material processing, statistical analysis; V.D. Prokopiev, M.M. Fedotova, O.S. Fedorova ― writing the text; O.S. Fedorova, M.M. Fedotova ― editing.
Acknowledgments. The research team expresses gratitude to the Department of Health of the Tomsk Region, as well as the team of doctors and the chief physician of the Regional Perinatal Center named after I.D. Evtushenko” Tomsk for assistance in recruiting patients on the basis of the OPC.
About the authors
Valeria D. Prokopyeva
Siberian State Medical University
Author for correspondence.
Email: valeriya.d.prokopyeva@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0728-5825
SPIN-code: 1072-4300
Россия, Tomsk
Marina M. Fedotova
Siberian State Medical University
Email: fedotova.letter@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-7655-7911
SPIN-code: 1488-8189
MD, Cand. Sci. (Med.), Assistant Professor
Россия, TomskUlyana V. Kutas
Siberian State Medical University
Email: uliaka007@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-3495-0832
SPIN-code: 3201-5750
Россия, Tomsk
Ksenia V. Nevskaya
Siberian State Medical University
Email: valeriya.d.prokopyeva@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-1659-8812
SPIN-code: 1405-0472
MD, Cand. Sci. (Med.)
Россия, TomskKonstantin R. Morozov
Siberian State Medical University
Email: morozov.tom@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-1847-2685
SPIN-code: 9637-4582
Россия, Tomsk
Olga S. Fedorova
Siberian State Medical University
Email: olga.sergeevna.fedorova@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-7130-9609
SPIN-code: 5285-4593
MD, Dr. Sci. (Med.) Professor
Россия, TomskTatyana P. Mankovskaya
Regional Perinatal Center named after I.D. Yevtushenko
Email: MankovskayaTP@opc.tomsk.ru
ORCID iD: 0000-0003-2964-7281
Россия, Tomsk
References
- Muraro A, Worm M, Alviani C, et al. European academyof allergy and clinical immunology, food allergy, anaphylaxis guidelines group. EAACI guidelines: Anaphylaxis (2021 update). Allergy. 2022;77(2): 357–377. doi: 10.1111/all.15032
- Baranov AA, Namazova-Baranova LS, Khaitov RM, et al. Modern principles of management of children with food allergies. Pediatric Pharmacol. 2021;18(3):245–263. (In Russ). doi: 10.15690/pf.v18i1.2286
- Namazova-Baranova LS, Makarova SG, Novik GA, Vishneva EA. National clinical guidelines for providing medical care to children with allergies to cow’s milk proteins. A brief overview of the document. Russian Journal of Allergy. 2017;14(2):55–65. (In Russ).
- Tham EH, Lee BW, Chan YH, et al. Low food allergy prevalence despite delayed introduction of allergenic foods: Data from the GUSTO cohort. J Allergy Clin Immunol Pract. 2018;6(2):466–475.e1. doi: 10.1016/j.jaip.2017.06.001
- Okabe H, Hashimoto K, Yamada M, et al. Associations between fetal or infancy pet exposure and food allergies: The Japan environment and children’s study. PLoS One. 2023;16(3):e0282725. doi: 10.1371/journal.pone.0282725
- Konya T, Koster B, Maughan H, et al. Associations between bacterial communities of house dust and infant gut. Environment Res. 2014;(131):25–30. doi: 10.1016/j.envres.2014.02.005
- Marrs T, Logan K, Craven J, et al. Dog ownership at three months of age is associated with protection against food allergy. Allergy. 2019;74(11):2212–2219. doi: 10.1111/all.13868
- Gao X, Yan Y, Zeng G, et al. Influence of prenatal and early-life exposures on food allergy and eczema in infancy: A birth cohort study. BMC Pediatrics. 2019;19(1):239. doi: 10.1186/s12887-019-1623-3
- Sasaki A, Kopli JJ, Dharmage SC, et al. Prevalence of clinic-defined food allergy in early adolescence: The School Nuts study. J Allergy Clin Immunol. 2018;141(1):391–398. doi: 10.1016/j.jaci.2017.05.041
- Gao Q, Ren YX, Liu YG, et al. Allergy march of Chinese children with infantile allergic symptoms: A prospective multi-center study. World J Pediatrics. 2017;13(4):335–340. doi: 10.1007/s12519-017-0024-7
- Treneva MS, Munblit DB, Ivannikov NY, et al. Prevalence of atopic dermatitis and reactions to food products in Moscow children aged 2 years. Pediatriya. Zhurnal im. G.N. Speranskogo. 2014;93(3):33–38. (In Russ). doi: 10.24110/0031-403X-2018-97-2-33-38
- Bulatova EM, Boitsova EA, Shabalov AM. Prevalence of food intolerance and food allergy in children of St. Petersburg. Pediatriya. Zhurnal im. G.N. Speranskogo. 2014;93(3): 14–20. (In Russ).
- Su KW, Cetinbas M, Martin VM, et al. Early infancy dysbiosis in food protein-induced enterocolitis syndrome: A prospective cohort study. Allergy. 2023;78(6):1595–1604. doi: 10.1111/all.15644
- Kosenkova TV, Bogdanova NM, Boitsova EA. Gastrointestinal manifestations of food allergy in newborns. Med Theory Pract. 2019;4(1):10–33. (In Russ).
- Makarova SG, Namazova-Baranova LS, Borovik TE, et al. Gastrointestinal manifestations of allergy to cow’s milk protein in children. Med Adv. 2014;(1):28–34. (In Russ).
- Park M, Kim D, Ahn K, et al. Prevalence of immediate-type food allergy in early childhood in seoul. Allergy Asthma Immunol. 2014;6(2):131–136. doi: 10.4168/aair.2014.6.2.131
- Prokopyeva VD, Fedotova MM, Konovalova UV, et al. Prevalence and risk factors of food allergy in children: A review of epidemiological studies. Russian Journal of Allergy. 2022;19(2):175–189. (In Russ). doi: 10.36691/RJA1531
- Kostin RK, Malyugin DA, Khachaturov MV. The relationship of microbiota and allergic reactions, the effectiveness of probiotics and prebiotics in the elimination of allergy symptoms. South Ural Med J. 2022;(1):76–86. (In Russ).
- Clausen M, Jonasson K, Keil T, et al. Fish oil in infancy protects against food allergy in Iceland: Results from a birth cohort study. Allergy. 2018;73(6):1305–1312. doi: 10.1111/all.13385