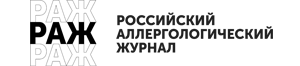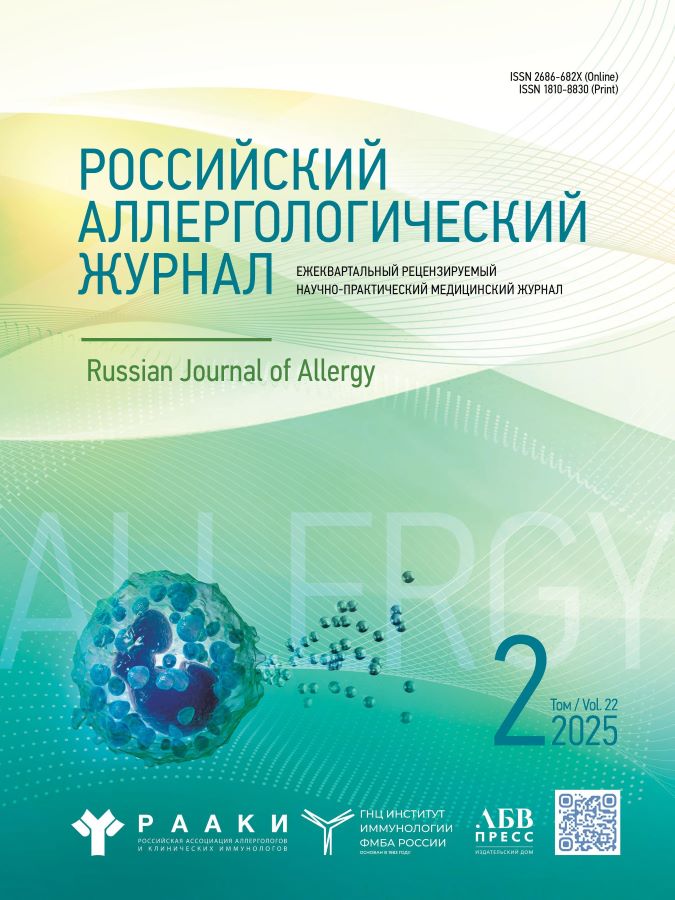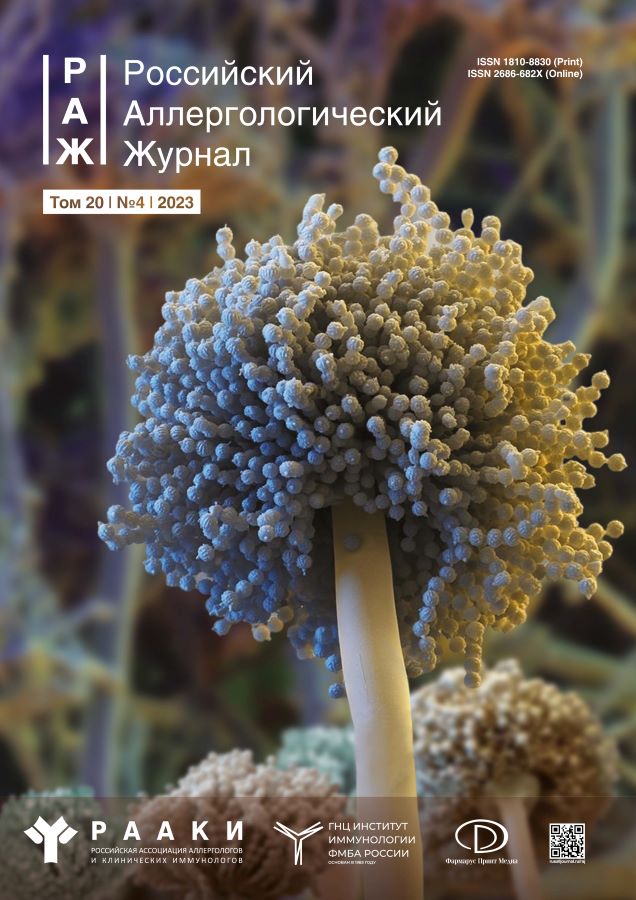Таргетная терапия тяжёлой бронхиальной астмы: смена биологического препарата в реальной клинической практике ― причины и следствие
- Авторы: Наумова В.В.1, Бельтюков Е.К.1, Киселева Д.В.1, Быкова Г.А.1, Смоленская О.Г.1, Штанова А.А.1, Степина Д.А.1
-
Учреждения:
- Уральский государственный медицинский университет
- Выпуск: Том 20, № 4 (2023)
- Страницы: 439-454
- Раздел: Оригинальные исследования
- Дата подачи: 28.09.2023
- Дата принятия к публикации: 28.11.2023
- Дата публикации: 02.12.2023
- URL: https://rusalljournal.ru/raj/article/view/15993
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA15993
- ID: 15993
Цитировать
Аннотация
Обоснование. Сложность выбора генно-инженерного биологического препарата для лечения тяжёлой бронхиальной астмы обусловлена перекрёстами эндотипов и фенотипов заболевания. Ошибки выбора генно-инженерного биологического препарата приводят к отмене и/или смене препарата вследствие недостаточной эффективности терапии.
Цель — определить причины прекращения таргетной терапии и эффективность смены биологического препарата у больных тяжёлой бронхиальной астмой в реальной клинической практике.
Материалы и методы. Участниками исследования были пациенты с тяжёлой бронхиальной астмой (n=116) из регистра Свердловской области. Пациенты были разделены на 3 группы: «Продолжающие» (группа 1), «Стопперы» (группа 2) и «Переключённые» (группа 3), в которых определяли предикторы отмены и смены генно-инженерного биологического препарата, причины отмены стартового генно-инженерного биологического препарата, схемы переключения, эффективность терапии после переключения (по объёму форсированного выдоха за первую секунду, потребности в системных глюкокортикоидах, достижению стойкого контроля над бронхиальной астмой, динамике тестов АСТ, AQLQ, SNOT-22).
Результаты. Из 116 пациентов регистра в 17,2% случаев произошла отмена, в 12,1% ― смена препарата. «Стопперы» реже страдали хроническим риносинуситом с полипами носа, имели более ранний дебют бронхиальной астмы. В группе «Переключённых» был выше уровень эозинофилов крови. В 45% случаев терапия была отменена по личным причинам пациентов. Основная причина переключения (92,8%) ― неэффективность терапии по тяжёлой бронхиальной астме и/или хроническому риносинуситу с полипами носа. Чаще переключали с омализумаба и бенрализумаба. Препаратом выбора при переключении был дупилумаб. Через 12 месяцев после переключения отмечалось улучшение показателей объёма форсированного выдоха за первую секунду (на 21,2%); тестов АСТ (на 86,4%), AQLQ (на 52,5%), SNOT-22 (на 48%); потребность в системных глюкокортикоидах снизилась до нуля. Стойкого контроля без и с учётом объёма форсированного выдоха за первую секунду достигли 62,5 и 50% пациентов соответственно.
Заключение. Тщательный отбор пациентов на таргетную терапию позволяет минимизировать неудачи стартового препарата до 12,1%. Смена стартового генно-инженерного биологического препарата, направленного на блокирование только эозинофилов или только IgE, вследствие его неэффективности на препарат с двойным механизмом действия существенно улучшает результаты объёма форсированного выдоха за первую секунду, тестов АСТ, AQLQ и SNOT-22, а также снижает потребность в системных глюкокортикоидах.
Полный текст
Список сокращений
АР ― аллергический ринит
АтД ― атопический дерматит
БА ― бронхиальная астма
ВАШ ― визуально-аналоговая шкала
ГИБП ― генно-инженерные биологические препараты
ИМТ ― индекс массы тела
МКБ-10 ― Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра
НПВП ― нестероидные противовоспалительные препараты
ОФВ1 ― объём форсированного выдоха за первую секунду
сГКС ― системные глюкокортикостероиды
ТБА ― тяжёлая бронхиальная астма
ХРС ― хронический риносинусит
ХРСбПН ― хронический риносинусит без полипов носа
ХРСсПН ― хронический риносинусит с полипами носа
АСТ (Asthma Control Test) ― тест по контролю над астмой
AQLQ (Asthma Quality of Life Questionnaire) ― опросник по качеству жизни при астме
IgE (immunoglobulin E) ― иммуноглобулин Е
IL (interleukin) ― интерлейкин
SNOT-22 (Sino-Nasal Outcome Test) ― опросник по оценке качества жизни пациентов с заболеваниями носа и околоносовых пазух
ОБОСНОВАНИЕ
Углублённое изучение патогенеза бронхиальной астмы в последние десятилетия позволило разработать генно-инженерные биологические препараты (ГИБП) для лечения тяжёлой бронхиальной астмы (ТБА). Механизм действия имеющихся на данный момент в рутинной практике таргетных препаратов (омализумаб, меполизумаб, реслизумаб, бенрализумаб, дупилумаб) направлен на разные звенья Т2-воспаления [1]. Так, омализумаб воздействует на иммуноглобулин Е (immunoglobulin E, IgE); меполизумаб и реслизумаб нацелены на интерлейкин-5 (interleukin, IL), в то время как бенрализумаб связывается с альфа-субъединицей рецептора IL-5; дупилумаб ингибирует пути IL-4 и IL-13, связываясь с альфа-субъединицей рецептора IL-4 [2–4]. Поскольку прямые сравнения между этими биологическими препаратами единичные, утверждать о превосходстве одного биологического агента над другим невозможно [2, 5–7]. Из-за неоднородности патогенетических механизмов Т2-воспаления выбор оптимального препарата может быть затруднён [5, 6, 8]. По данным некоторых авторов, до 1/3 пациентов с ТБА имеют перекрывающиеся критерии для назначения четырёх биологических препаратов, а 75% пациентов соответствуют требованиям для двух и более биологических препаратов [9]. В свою очередь, ошибки выбора мишени для терапии, а следовательно, и стартового моноклонального антитела, часто приводят к прекращению и/или смене таргетного препарата вследствие неоптимального клинического ответа [5, 6, 8].
Цель исследования ― определить причины прекращения таргетной терапии и эффективность смены биологического препарата у пациентов с тяжёлой бронхиальной астмой в реальной клинической практике.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
В обсервационном когортном ретроспективном исследовании участвовали взрослые пациенты (≥18 лет) с ТБА из территориального регистра Свердловской области, получающие таргетную терапию.
Критерии соответствия
Критерии включения. При включении пациентов в регистр для проведения таргетной терапии диагноз ТБА верифицировался консилиумом специалистов на основании критериев Американского торакального и Европейского респираторного обществ (American Thoraciс Society/European Respiratory Society, ATS/ERS) [10, 11]; ГИБП назначали в соответствии с фенотипом заболевания. Пациентам с аллергическим фенотипом ТБА (J45.0) первой линией назначали омализумаб. Если масса тела и/или уровень общего IgE не позволяли рассчитать дозу омализумаба, а также в случаях сочетания ТБА с атопическим дерматитом пациенту назначали дупилумаб. Аллергический фенотип определяли при сочетании положительного аллергоанамнеза с положительными результатами аллергообследования (кожные пробы, и/или специфические IgE, и/или тест Фадиатоп). Пациентам с неаллергической эозинофильной астмой (J45.1) назначали анти-IL5 или анти-IL-4R,13 препараты. Неаллергический эозинофильный фенотип устанавливали при отрицательном аллергоанамнезе, отрицательных результатах аллергообследования и уровне эозинофилов периферической крови ≥150 кл/мкл [11, 12]. Для этого фенотипа были характерны также наличие хронического риносинусита с/без назальных полипов (ХРСсПН/ХРбПН) и непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов. Выбор препарата для пациентов с неаллергической эозинофильной астмой определялся уровнем эозинофилов периферической крови. Меполизумаб назначали пациентам с эозинофилами ≥150 кл/мкл, дупилумаб ― с эозинофилами ≤1500 кл/мкл. При уровне эозинофилов крови ≥400 кл/мкл предпочтение отдавали бенрализумабу или реслизумабу. Смешанный фенотип ТБА (J45.8) предполагал сочетание аллергического и неаллергического компонентов и возможность назначения любого класса ГИБП с учётом клинико-лабораторной характеристики пациентов. Всего на апрель 2023 года в регистре зафиксировано 157 случаев инициации терапии ГИБП, из них 15 случаев, когда терапию вторым и третьим по счёту препаратом назначали одному и тому же пациенту (13 пациентам ― вторым по счёту препаратом, 1 пациентке ― вторым и третьим по счёту препаратом).
Критерии исключения: начало терапии до июня 2019 года, когда в Свердловской области стал доступен для назначения второй ГИБП; отказ пациента от терапии до первой инъекции по собственному желанию; начало терапии после октября 2022 года (чтобы пациенты прошли контрольную оценочную точку «Месяц 4») (рис. 1).
Рис. 1. Схема включения пациентов регистра Свердловской области в исследование. ГИБП ― генно-инженерный биологический препарат.
Fig. 1. Inclusion scheme of patients of the Sverdlovsk region register in the study. ГИБП ― genetically engineered biological drug.
Продолжительность исследования
Набор пациентов проводился с июня 2019 по октябрь 2022 года включительно.
Описание медицинского вмешательства
Пациенты были разделены на 3 группы: группа 1 ― продолжающие лечение («Продолжающие»), группа 2 ― завершившие лечение («Стопперы»), группа 3 ― пациенты, сменившие ГИБП («Переключённые»).
Назначение ГИБП происходило с учётом определённого консилиумом фенотипа и согласно инструкциям на препараты. В процессе наблюдения за пациентами во время таргетной терапии регистрировали показатели клинического состояния пациентов, лабораторно- инструментального обследования, использования ресурсов здравоохранения, качества жизни, в том числе проводили учёт количества инъекций, нежелательных лекарственных реакций, причин отказов от терапии и смены препарата.
Основной исход исследования
Первичная конечная точка: выявить признаки, характерные для пациентов, у которых произошла отмена или смена препарата.
Дополнительные исходы исследования
Вторичные конечные точки: основные причины отмены стартового ГИБП, схемы переключения, эффективность терапии после переключения.
При оценке отмены и переключения с одного препарата на другой все причины были разделены на 8 групп:
- личные причины (нежелание или боязнь новых препаратов, семейные обстоятельства, немотивированные причины, невозможность совмещения лечения с рабочим графиком);
- достижение контроля над ТБА, расценённое пациентом как признак достаточности таргетной терапии и повод для отказа от её продолжения (решение о прекращении терапии было принято пациентами);
- нежелательные лекарственные реакции;
- неэффективность по ТБА;
- неэффективность по сопутствующей Т2-патологии (хронический риносинусит, атопический дерматит);
- неэффективность по ТБА и сопутствующей Т2-патологии;
- организационные причины (задержка закупа препаратов медицинскими учреждениями, сложности с организацией обследования перед каждой инъекцией на местах, кратность инъекций 2 раза в месяц для дупилумаба);
- смерть.
Методы регистрации исходов
Оценку эффективности переключения производили по динамике отдельных показателей, таких как объём форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), потребность в системных глюкокортикоидах (сГКС), результаты теста по контролю над астмой (Asthma Control Test, АСТ), опросника по качеству жизни при астме (Asthma Quality of Life Questionnaire, AQLQ), оценки качества жизни пациентов с заболеваниями носа и околоносовых пазух (Sino-Nasal Outcome Test, SNOT-22), методом анализа связанных совокупностей на 4-м и 12-м месяцах терапии, а также по комплексному показателю ― достижению стойкого контроля над ТБА. За стойкий контроль ТБА принимали отсутствие обострений астмы, отсутствие потребности в сГКС, АСТ ≥20 баллов, ОФВ1 ≥80% должного объёма к 12-му месяцу терапии.
Этическая экспертиза
Исследование прошло экспертизу в локальном этическом комитете ФГБОУ ВО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол № 8 от 25.10.2019).
Пациенты подписывали добровольное информированное согласие на участие в исследовании.
Статистический анализ
Расчёт размера выборки предварительно не проводился.
Статистический анализ проводили с использованием программы StatTech v.3.1.7 (разработчик ― ООО «Статтех», Россия). Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению с помощью критерия Шапиро–Уилка (при числе исследуемых <50) или критерия Колмогорова–Смирнова (при числе исследуемых >50). Количественные показатели, имеющие нормальное распределение, описывали с помощью средних арифметических величин (M) и стандартных отклонений (SD), границ 95% доверительного интервала (95% ДИ). В случае отсутствия нормального распределения количественные данные описывали с помощью медианы (Me) и нижнего и верхнего квартилей (Q1–Q3). Категориальные данные описывали с указанием абсолютных значений и процентных долей. Сравнение трёх и более групп по количественному показателю, имеющему нормальное распределение, выполняли с помощью однофакторного дисперсионного анализа; апостериорные сравнения проводили с помощью критерия Тьюки (при условии равенства дисперсий). Сравнение трёх и более групп по количественному показателю, распределение которого отличалось от нормального, выполняли с помощью критерия Краскела– Уоллиса, апостериорные сравнения ― с помощью критерия Данна с поправкой Холма. Сравнение процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряжённости выполняли с помощью критерия хи-квадрат Пирсона.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Объекты (участники) исследования
Описание групп и факторы-предикторы отмены и переключения препаратов
Из 116 пациентов 70,7% (n=82) составили пациенты, продолжающие лечение, 17,2% (n=20) ― завершившие лечение, 12,1% (n=14) ― сменившие терапию (табл. 1). При сравнении групп по основным демографическим и клиническим характеристикам выявлено, что в группе завершивших лечение дебют бронхиальной астмы состоялся раньше, чем у пациентов, продолжающих лечение и сменивших терапию (р=0,027). Завершившие терапию пациенты реже страдали хроническим риносинуситом с полипами носа (ХРСсПН) (р=0,017). У пациентов с переключением на другой ГИБП уровень эозинофилов периферической крови исходно был выше, чем у продолжающих и завершивших лечение (р=0,005).
Таблица 1. Характеристика пациентов с тяжёлой бронхиальной астмой, включённых в исследование
Table 1. Characteristics of patients with severe bronchial asthma taking into the study
Показатели | Всего n=116 | Группа | р | ||
1 n=82 | 2 n=20 | 3 n=14 | |||
Женщины, n (%) | 98 (84,5) | 71 (86,6) | 15 (75,0) | 12 (85,7) | 0,435 |
Мужчины, n (%) | 18 (15,5) | 11 (13,4) | 5 (25,0) | 2 (14,3) | |
Средний возраст, лет, M±SD (95% ДИ) | 51,12±12,19 (48,88–53,36) | 51,67±12,31 (48,97–54,37) | 46,90±13,42 (40,62–53,18) | 53,93±8,33 (49,12–58,74) | 0,192 |
Средний возраст дебюта БА, лет, Me (Q1–Q3) | 30,00 (12,50–41,00) | 31,50 (18,25–40,75) | 16,00 (7,50–29,00) | 43,50 (23,50–50,75) | 0,027* p3–2 0,032 |
ИМТ, кг/м2, M±SD (95% ДИ) | 28,44±6,23 (27,24–29,63) | 28,74±6,53 (27,30–30,19) | 27,39±5,87 (23,66–31,12) | 27,56±4,75 (24,82–30,30) | 0,671 |
АР, n (%) | 55 (47,4) | 40 (48,8) | 9 (45,0) | 6 (42,9) | 0,894 |
ХРСсПН, n (%) | 55 (47,4) | 42 (51,2) | 4 (20,0) | 9 (64,3) | 0,017* p1–2 0,027 p2–3 0,027 |
ХРСбПН, n (%) | 15 (12,9) | 8 (9,8) | 4 (20,0) | 3 (21,4) | 0,284 |
АтД, n (%) | 15 (12,9) | 13 (15,9) | 1 (5,3) | 1 (7,1) | 0,365 |
Гиперчувствительность к НПВП, n (%) | 38 (33,6) | 24 (29,3) | 8 (47,1) | 6 (42,9) | 0,272 |
Курение, n (%) | 14 (12,2) | 9 (11,0) | 3 (15,8) | 2 (14,3) | 0,818 |
Общий IgE, МЕ/мл, Me (Q1–Q3) | 168,30 (74,95–450,75) | 189,00 (73,30–473,50) | 207,00 (44,90–391,00) | 133,00 (119,00–218,73) | 0,891 |
Фадиатоп, PAU/l, Me (Q1–Q3) | 1,04 (0,08–7,21) | 1,31 (0,08–7,86) | 1,33 (0,10–6,29) | 0,50 (0,03–4,32) | 0,715 |
Эозинофилы периферической крови, кл/мкл, Me (Q1–Q3) | 489,00 (299,50–874,00) | 466,50 (284,50–755,75) | 390,50 (239,50–536,00) | 881,50 (619,25–1249,50) | 0,005* p3–1 0,006 p3–2 0,006 |
ОФВ1, %, M±SD (95% ДИ) | 63,46±21,18 (59,53–67,39) | 61,95±20,86 (57,34–66,56) | 61,02±21,47 (50,67–71,37) | 75,51±20,12 (63,89–87,12) | 0,073 |
Примечание. * Статистически значимые различия между группами сравнения. Группа 1 ― «Продолжающие»; группа 2 ― «Стопперы»; группа 3 ― «Переключённые». БА ― бронхиальная астма; ИМТ ― индекс массы тела; АР ― аллергический ринит; ХРСсПН ― хронический риносинусит с полипами носа; ХРСбПН ― хронический риносинусит без полипов носа; АтД ― атопический дерматит; НПВП ― нестероидные противовоспалительные препараты; ОФВ1 ― объём форсированного выдоха за первую секунду.
Note. * Statistically significant differences between comparison groups. Group 1 ― Continuous; group 2 ― Stoppers; group 3 ― Switched. БА ― bronchial asthma; ИМТ ― body mass index; АР ― allergic rhinitis; ХРСсПН ― chronic rhinosinusitis with nasal polyps; ХРСбПН ― chronic rhinosinusitis without nasal polyps; АтД ― atopic dermatitis; НПВП ― non-steroidal anti-inflammatory drugs; ОФВ1 ― forced expiratory volume in the first second.
Фенотипы и препараты
Среди всех пациентов неаллергическая эозинофильная ТБА составляла 49,1% (n=57), аллергическая ― 34,5% (n=40), смешанная ― 16,4% (n=19). Похожее распределение было в группах пациентов, продолжающих и сменивших терапию. В группе больных, завершивших терапию, пациентов с аллергической и неаллергической астмой было равное количество (табл. 2). В группах больных, продолжающих и завершивших лечение, преобладали пациенты, получавшие омализумаб (34,1 и 50,0% соответственно), дупилумаб (25,6 и 30,0% соответственно) и меполизумаб (19,5 и 20,0% соответственно). В группе 3 бÓльшая часть пациентов получала бенрализумаб и омализумаб (по 37,5% каждый препарат), меполизумаб (21,4%) (см. табл. 2).
Таблица 2. Распределение пациентов в исследуемых группах по фенотипам и получаемым препаратам
Table 2. Distribution of patients in the study groups by phenotypes and drugs received
Признак | Всего n=116 | Группа | |||
1 n=82 | 2 n=20 | 3 n=14 | |||
Фенотип БА (по МКБ-10) | J45.0 Аллергическая, n (%) | 40 (34,5) | 29 (35,4) | 8 (40,0) | 3 (21,4) |
J45.1 Неаллергическая, n (%) | 57 (49,1) | 41 (50,0) | 8 (40,0) | 8 (57,1) | |
J45.8 Смешанная, n (%) | 19 (16,4) | 12 (14,6) | 4 (20,0) | 3 (21,4) | |
Препарат | Омализумаб, n (%) | 43 (37,1) | 28 (34,1) | 10 (50,0) | 5 (35,7) |
Бенрализумаб, n (%) | 16 (13,8) | 11 (13,4) | 0 (0,0) | 5 (35,7) | |
Дупилумаб, n (%) | 27 (23,3) | 21 (25,6) | 6 (30,0) | 0 (0,0) | |
Меполизумаб, n (%) | 23 (19,8) | 16 (19,5) | 4 (20,0) | 3 (21,4) | |
Реслизумаб, n (%) | 7 (6,0) | 6 (7,3) | 0 (0,0) | 1 (7,1) | |
Примечание. Группа 1 ― «Продолжающие»; группа 2 ― «Стопперы»; группа 3 ― «Переключённые». БА ― бронхиальная астма.
Note. Group 1 ― Continuous; Group 2 ― Stoppers; Group 3 ― Switched. БА ― bronchial asthma.
Основные результаты исследования
Среди пациентов с аллергическим фенотипом ТБА в группе 1 лечение продолжается омализумабом (n=25) и дупилумабом (n=4). В группе 2 завершили лечение пациенты только на омализумабе (n=8) (рис. 2). Завершение терапии в группе 2 у пациентов с аллергической ТБА в 3 (37,5%) случаях было по личным причинам, в 2 (25%) ― по достижении контроля над ТБА (пациенты решили прекратить терапию через 10 и 35 месяцев терапии), по 1 (12,5%) случаю ― вследствие развития нежелательной реакции (флеботромбоз, не связанный с ГИБП), неэффективность по бронхиальной астме, организационная причина (переезд в другую область). В группе 3 переключение терапии произошло с омализумаба (n=2) и бенрализумаба (n=1) (см. рис. 2). Переключение пациентов с аллергическим фенотипом ТБА было только по причине неэффективности препаратов: в одном случае отмечалась неэффективность омализумаба в отношении сопутствующего ХРСсПН (контроль по ТБА достигнут); во втором ― неэффективность омализумаба в отношении ТБА (достигнута ремиссия по хронической спонтанной крапивнице); в третьем ― неэффективность бенрализумаба в отношении как ТБА, так и ХРСсПН. Все три пациента были переведены на дупилумаб.
Рис. 2. Распределение препаратов в исследуемых группах по фенотипам. Фенотип по МКБ-10: J45.0 Аллергическая тяжёлая бронхиальная астма; J45.1 Неаллергическая эозинофильная тяжёлая бронхиальная астма; J45.8 Смешанная тяжёлая бронхиальная астма.
Fig. 2. Distribution of drugs in the study groups by phenotypes. ICD-10 phenotype: J45.0 Allergic severe bronchial asthma; J45.1 Non-allergic eosinophilic severe bronchial asthma; J45.8 Mixed severe bronchial asthma.
Среди пациентов с неаллергической эозинофильной ТБА терапия в группе 1 продолжается меполизумабом (n=13), дупилумабом (n=12), бенрализумабом (n=11) и реслизумабом (n=5). Завершили лечение пациенты в группе 2 на дупилумабе (n=4) и меполизумабе (n=4) (см. рис. 2). Причины завершения терапии были следующие: 4 (50%) пациента отказались по личным причинам (2 пациента получали меполизумаб, 2 пациента ― дупилумаб); у 1 (12,5%) пациентки, получавшей меполизумаб, отмечались нежелательные реакции (привкус во рту и головокружение), в 1 (12,5%) случае (реслизумаб) завершение терапии связано с организационными причинами; 2 случая смерти (в одном случае, где пациентка получала дупилумаб, ― смерть от острой сердечной недостаточности; во втором случае, где пациентка получала меполизумаб, ― от астматического статуса в хирургическом отделении после назначения нестероидного противовоспалительного препарата). В группе 3 переключали пациентов с бенрализумаба (n=4), меполизумаба (n=3) и реслизумаба (n=1) (см. рис. 2). Переключение на другой препарат у 4 пациентов произошло по причине неэффективности по ТБА (50%), у 1 (12,5%) ― из-за неэффективности по ХРСсПН, у 2 (25%) ― из-за неэффективности по ТБА+ХРСсПН; в 1 (12,5%) случае причины переключения были организационными (больница не закупила ГИБП). Во всех случаях происходило переключение на дупилумаб.
Пациенты со смешанной ТБА в группе 1 продолжают лечение дупилумабом (n=5), омализумабом и меполизумабом (по 3 пациента), реслизумабом (n=1). В группе 2 по 2 пациента завершили лечение омализумабом и дупилумабом (см. рис. 2). Причины завершения лечения: 2 (50%) случая ― личные причины (подготовка к беременности); 1 (25%) случай ― нежелательная реакция на дупилумаб (конъюнктивит и артралгии), ещё 1 (25%) ― неэффективность по ХРСсПН. В группе 3 переключали пациентов только с омализумаба (n=3) (см. рис. 2). Причины перевода на дупилумаб: в 2 (66,7%) случаях ― неэффективность по ТБА, в 1 (33,3%) ― неэффективность по ХРСсПН (по астме контроль достигнут).
Дополнительные результаты исследования
Анализ отмены и переключения таргетной терапии
При анализе случаев отмены или смены ГИБП самой частой причиной была неэффективность терапии (при объединении неэффективности по астме и сопутствующим Т2-заболеваниям) ― 44,1% от числа всех причин отмены/смены ГИБП. В 15 случаях неэффективности 7 пациентов получали омализумаб, 5 ― бенрализумаб, 3 ― меполизумаб. На дупилумаб и реслизумаб неэффективности не отмечено. Из 15 пациентов с неэффективной стартовой терапией только 2 пациента отказались от переключения, 13 пациентов были переключены на другой препарат (табл. 3).
Отмена препарата по причине достижения контроля над ТБА была зарегистрирована в 2 случаях приёма омализумаба. У 3 пациентов были зарегистрированы нежелательные реакции, приведшие к отмене препаратов (для омализумаба ― тромбоцитопения; для дупилумаба ― артралгии, конъюнктивит; для меполизумаба ― привкус ацетона и головокружение). Две пациентки с неаллергической эозинофильной астмой, получавшие дупилумаб и меполизумаб, умерли в ходе исследования. Причины смерти описаны выше. Смертельные исходы расценены как не связанные с приёмом таргетных препаратов (см. табл. 3).
Таблица 3. Причины отмены и отменённые генно-инженерные биологические препараты первой линии у пациентов групп 2 и 3
Table 3. Reasons for stopping and first-line discontinued biologicals in patients of groups 2 and 3
Причины | Все | Статус терапии | Препарат | |||||
завершившие | переключённые | Ома | Бенра | Дупи | Мепо | Ресли | ||
Личные причины, n (%) | 9 (26,5) | 9 (45,0) | 0 (0,0) | 4 (26,7) | 0 (0,0) | 3 (50,0) | 2 (28,6) | 0 (0,0) |
Достижение контроля над ТБА, n (%) | 2 (5,9) | 2 (10,0) | 0 (0,0) | 2 (13,3) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Нежелательные реакции, n (%) | 3 (8,8) | 3 (15,0) | 0 (0,0) | 1 (6,7) | 0 (0,0) | 1 (16,7) | 1 (14,3) | 0 (0,0) |
Неэффективность по ТБА, n (%) | 8 (23,5) | 1 (5,0) | 7 (50,0) | 4 (26,7) | 2 (40,0) | 0 (0,0) | 2 (28,6) | 0 (0,0) |
Неэффективность по ХРСсПН, n (%) | 4 (11,8) | 1 (5,0) | 3 (21,4) | 3 (20,0) | 1 (20,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) |
Неэффективность по ТБА+ХРСсПН, n (%) | 3 (8,8) | 0 (0,0) | 3 (21,4) | 0 (0,0) | 2 (40,0) | 0 (0,0) | 1 (14,3) | 0 (0,0) |
Организационные причины, n (%) | 3 (8,8) | 2 (10,0) | 1 (7,1) | 1 (6,7) | 0 (0,0) | 1 (16,7) | 0 (0,0) | 1 (100,0) |
Смерть, n (%) | 2 (5,9) | 2 (10,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 0 (0,0) | 1 (16,7) | 1 (14,3) | 0 (0,0) |
Примечание. ТБА ― тяжёлая бронхиальная астма; ХРСсПН ― хронический риносинусит с полипами носа; Ома ― омализумаб; Бенра ― бенрализумаб; Дупи ― дупилумаб; Мепо ― меполизумаб; Ресли ― реслизумаб.
Note. ТБА ― severe bronchial asthma; ХРСсПН ― chronic rhinosinusitis with nasal polyps; Ома ― omalizumab; Бенра ― benralizumab; Дупи ― dupilumab; Мепо ― mepolizumab; Ресли ― reslizumab.
Средняя длительность таргетной терапии среди всех пациентов составила 21,00 месяц (Q1–Q3: 12,00–32,00). В группах больных, продолжающих лечение и переключённых, длительность терапии существенно не отличалась: 24,50 (Q1–Q3: 15,25–32,75) и 19,50 (Q1–Q3: 9,50–23,00) месяцев соответственно (р=0,091). Пациенты, завершившие лечение, получали таргетные препараты значительно меньше ― 9,50 месяцев (Q1–Q3: 4,00–14,25) (р <0,001). Похожее распределение по длительности приёма ГИБП (преобладание длительности терапии у продолжающих и самый короткий приём у завершивших) было при рассмотрении групп по фенотипам (рис. 3). По длительности терапии по каждому препарату в исследуемый период времени статистически значимых различий не выявлено: приём бенрализумаба длился 15,5 (Q1–Q3: 8,75–22,50), дупилумаба ― 18,00 (Q1–Q3: 10,00–29,00), меполизумаба ― 21,00 (Q1–Q3: 16,50–30,50), омализумаба ― 23,00 (Q1–Q3: 12,00–35,00), реслизумаба ― 26,00 (Q1–Q3: 12,00–28,50) месяцев (р=0,268).
Рис. 3. Длительность терапии в группах наблюдения в зависимости от фенотипа бронхиальной астмы. Фенотип по МКБ-10: J45.0 Аллергическая тяжёлая бронхиальная астма; J45.1 Неаллергическая эозинофильная тяжёлая бронхиальная астма; J45.8 Смешанная тяжёлая бронхиальная астма.
Fig. 3. Duration of therapy in the observation groups depending on asthma phenotype. ICD-10 phenotype: J45.0 Allergic severe bronchial asthma; J45.1 Non-allergic eosinophilic severe bronchial asthma; J45.8 Mixed severe bronchial asthma.
Схемы и эффективность переключения
В группе 3 все пациенты (n=14) были переведены на дупилумаб: по 5 пациентов с омализумаба и бенрализумаба, 3 ― с меполизумаба, 1 ― с реслизумаба (табл. 4). Пациент с реслизумаба был переведён по организационным причинам, все остальные ― из-за неэффективности терапии по ТБА и/или сопутствующих Т2-заболеваний.
Таблица 4. Схемы переключения таргетной терапии в группе 3 («Переключённые»)
Table 4. Schemes for switching targeted therapy in group 3 (Switched)
Схема переключения | Группа 3, n (%) | ||
J45.0 | J45.1 | J45.8 | |
Ома→Дупи | 2 (66,7) | 0 (0,0) | 3 (100,0) |
Бенра→Дупи | 1 (33,3) | 4 (50,0) | 0 (0,0) |
Мепо→Дупи | 0 (0,0) | 3 (37,5) | 0 (0,0) |
Ресли→Дупи | 0 (0,0) | 1 (12,5) | 0 (0,0) |
Примечание. Ома ― омализумаб; Бенра ― бенрализумаб; Дупи ― дупилумаб; Мепо ― меполизумаб; Ресли ― реслизумаб. Фенотип по МКБ-10: J45.0 Аллергическая бронхиальная астма; J45.1 Неаллергическая эозинофильная бронхиальная астма; J45.8 Смешанная бронхиальная астма.
Note. Ома ― omalizumab; Бенра ― benralizumab; Дупи ― dupilumab; Мепо ― mepolizumab; Ресли ― reslizumab. ICD-10 phenotype: J45.0 Allergic bronchial asthma; J45.1 Non-allergic eosinophilic bronchial asthma; J45.8 Mixed bronchial asthma.
Длительность терапии перед переключением для бенрализумаба составила 9,00 (Q1–Q3: 7,00–16,00), для омализумаба ― 21,00 (Q1–Q3: 11,00–23,00), для меполизумаба ― 23,00 (Q1–Q3: 22,00–29,00), для реслизумаба ― 33,00 (Q1–Q3: 33,00–33,50) месяцев (р=0,082). У 4 из 5 переключённых пациентов, получавших омализумаб, изначально регистрировался положительный клинический эффект, и длительность терапии составила 11, 21, 23 и 33 месяца соответственно. Один пациент не ответил улучшением клинико-функциональных показателей на терапию омализумабом (длительность терапии 6 месяцев). Меполизумаб исходно показывал хорошую эффективность с последующим угасанием эффекта. Длительность терапии меполизумабом у пациентов группы 3 составила 21, 23, 35 месяцев. У 2 из 5 пациентов на бенрализумабе также был хороший ответ с последующим снижением клинического эффекта к 16-му и 18-му месяцу терапии. У 3 из 5 пациентов ответа на бенрализумаб не было (длительность терапии 3, 7, 9 месяцев).
На апрель 2023 года в группе 3 все пациенты (n=14) после переключения на альтернативный препарат успели пройти оценочный визит в точке «Месяц 4», 8 из 14 пациентов ― в точке «Месяц 12». Через 4 месяца после переключения статистически значимые улучшения наблюдались по АСТ, ОФВ1, AQLQ, SNOT-22 (табл. 5). По АСТ и AQLQ положительная динамика сохранилась и к 12-му месяцу терапии, тогда как ОФВ1 незначительно уменьшился. Количество баллов по SNOT-22 продолжало снижаться к 12-му месяцу, но без статистической значимости. Уменьшение доли пациентов, требующих назначения сГКС, зарегистрировано на 4-м месяце терапии без статистической значимости; у пациентов, получавших препарат второй линии в течение года, выявлено отсутствие потребности в сГКС (р=0,050) (см. табл. 5).
Таблица 5. Показатели эффективности таргетного препарата второй линии терапии тяжёлой бронхиальной астмы в группе 3 («Переключённые») на апрель 2023 года
Table 5. Effectiveness rates of a second-line targeted drug in the treatment of severe bronchial asthma in group 3 (Switched) for April 2023
Показатель | Число пациентов, n | Исходно# | Месяц 4 | Месяц 12 | р |
АСТ, балл, Me (Q1–Q3) | 14 | 11,00 (10,00–14,00) | 19,00 (15,00–20,00) | - | 0,002* |
8 | 11,00 (8,00–11,00) | 19,50 (18,25–21,50) | 20,50 (18,50–24,00) | 0,015* | |
ОФВ1, %, M±SD (95% ДИ) | 14 | 65,54±22,54 (51,91–79,16) | 84,62±19,83 (72,63–96,60) | - | 0,006* |
8 | 61,67±26,47 (33,89–89,45) | 86,17±16,41 (68,94–103,39) | 82,83±23,96 (57,69–107,98) | 0,051 | |
AQLQ, балл, M±SD (95% ДИ) | 14 | 3,69±1,14 (2,99–4,38) | 4,98±1,05 (4,35–5,62) | - | 0,001* |
8 | 3,66±0,91 (2,71–4,61) | 5,19±0,95 (4,20–6,19) | 5,58±1,17 (4,36–6,81) | 0,019* | |
Пациенты с потребностью в сГКС, % | 14 | 57,1 | 14,3 | - | 0,058 |
8 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,050* | |
SNOT-22, балл, Me (Q1–Q3) | 14 | 55,0 (39,0–62,0) | 36,0 (26,0–54,0) | - | 0,012* |
8 | 63,5 (53,0–89,0) | 49,0 (27,5–55,5) | 33,0 (20,8–38,5) | 0,154 |
Примечание. * Различия показателей статистически значимы (p <0,05); # на старте препарата переключения. АСТ ― тест по контролю над астмой; ОФВ1 ― объём форсированного выдоха за первую секунду; AQLQ ― опросник по качеству жизни при астме; сГКС ― системные глюкокортикоиды.
Note. * Statistically significant difference (p <0.05); # at the start of the switching drug. АСТ ― Asthma Control Test; ОФВ1 ― forced expiratory volume in the first second; AQLQ ― Asthma Quality of Life Questionnaire; сГКС ― systemic glucocorticosteroids.
В точке «Месяц 4» стойкого контроля ТБА без учёта ОФВ1 достигли 42,9% (n=6) пациентов, с учётом ОФВ1 ― 35,7% (n=5). В точке «Месяц 12» стойкий контроль без учёта ОФВ1 зарегистрирован у 62,5% (n=5) пациентов, с учётом ОФВ1 ― у 50% (n=4) (табл. 6). У 6 пациентов причиной переключения была неэффективность стартового препарата в отношении сопутствующей патологии (ХРСсПН), из них у 5 пациентов (пациенты №№ 2, 7, 9, 10, 14) после переключения зарегистрирована достаточно выраженная положительная динамика назальных симптомов по опросникам SNOT-22 и ВАШ. Пациентам удалось также достичь стойкого контроля ТБА. У пациента 1 за 4 месяца терапии (после переключения) динамики по назальной симптоматике не было (см. табл. 6).
Таблица 6. Характеристика пациентов группы 3 («Переключённые»), переключённых на другой генно-инженерный биологический препарат в рамках таргетной терапии
Table 6. Characteristics of patients group 3 ("Switched") switched between biologicals
Пациент | Пол | Возраст, лет | Фенотип ТБА | Препарат инициации ГИБТ | Приём стартового препарата, мес | Причина переключения ― неэффективность | Приём дупилумаба*, мес | Динамика после переключения на дупилумаб | |||||
Стойкий контроль ТБА с учётом ОФВ1 | Стойкий контроль ТБА без учёта ОФВ1 | SNOT-22, балл | ВАШ, балл | ||||||||||
Мес 4 | Мес 12 | Мес 4 | Мес 12 | ||||||||||
1 | М | 58 | J45.1 | Мепо | 35 | По ТБА+ХРСсПН | 5 | Нет | - | Нет | - | -1 на Мес 4 | +4 на Мес 4 |
2 | М | 46 | J45.0 | Ома | 23 | По ХРСсПН | 12 | Нет | Да | Нет | Да | -23 на Мес 12 | -5 на Мес 12 |
3 | Ж | 51 | J45.1 | Ресли | 33 | Организационные | 12 | Нет | Нет | Нет | Нет | - | - |
4 | Ж | 55 | J45.1 | Мепо | 21 | По ТБА | 8 | Да | - | Да | - | - | - |
5 | Ж | 68 | J45.8 | Ома | 21 | По ТБА | 17 | Нет | Нет | Нет | Нет | - | - |
6 | Ж | 52 | J45.0 | Ома | 11 | По ТБА | 12 | Нет | Нет | Да | Да | - | - |
7 | Ж | 59 | J45.8 | Ома | 33 | По ХРСсПН | 5 | Да | - | Да | - | -35 на Мес 4 | -9 на Мес 4 |
8 | Ж | 47 | J45.8 | Ома | 6 | По ТБА | 22 | Да | Да | Да | Да | ||
9 | Ж | 35 | J45.1 | Бенра | 3 | По ХРСсПН | 21 | Да | Да | Да | Да | -69 на Мес 12 | -4 на Мес 12 |
10 | Ж | 54 | J45.1 | Бенра | 18 | По ТБА+ХРСсПН | 15 | Нет | Да | Нет | Да | -16 на Мес 12 | -6 на Мес 12 |
11 | Ж | 65 | J45.1 | Мепо | 23 | По ТБА | 3 | Нет | - | Нет | - | - | - |
12 | Ж | 58 | J45.1 | Бенра | 16 | По ТБА | 12 | Нет | Нет | Нет | Нет | - | - |
13 | Ж | 58 | J45.1 | Бенра | 7 | По ТБА | 3 | Нет | - | Нет | - | - | - |
14 | Ж | 49 | J45.0 | Бенра | 9 | По ТБА+ХРСсПН | 5 | Да | - | Да | - | -10 на Мес 4 | -1 на Мес 4 |
Примечание. * Длительность приёма дупилумаба как препарата переключения на апрель 2023 гоДа. Ома ― омализумаб; Бенра ― бенрализумаб; Дупи ― дупилумаб; Мепо ― меполизумаб; Ресли ― реслизумаб. Фенотип по МКБ-10: J45.0 Аллергическая бронхиальная астма; J45.1 Неаллергическая эозинофильная бронхиальная астма; J45.8 Смешанная бронхиальная астма. ТБА ― тяжёлая бронхиальная астма; ХРСсПН ― хронический риносинусит с полипами носа; ОФВ1 ― объём форсированного выдоха за первую секунду. SNOT-22 ― опросник по оценке качества жизни пациентов с заболеваниями носа и околоносовых пазух; ВАШ ― визуальная аналоговая шкала.
Note. * Duration of dupilumab intake as a switch drug as of April 2023. Ома ― omalizumab; Бенра ― benralizumab; Дупи ― dupilumab; Мепо ― mepolizumab; Ресли ― reslizumab. ICD-10 phenotype: J45.0 Allergic bronchial asthma; J45.1 Non-allergic eosinophilic bronchial asthma; J45.8 Mixed bronchial asthma. ТБА ― severe bronchial asthma; ХРСсПН ― chronic rhinosinusitis with nasal polyps; ОФВ1 ― forced expiratory volume in the first second. SNOT-22 ― Questionnaire to assess the quality of life of patients with nasal and paranasal sinus diseases; ВАШ ― visual analogue scale.
ОБСУЖДЕНИЕ
В исследовании мы определяли факторы риска смены ГИБП, основные причины отказа от терапии и переключения с одного ГИБП на другой. В нашем регистре получился довольно низкий процент переключённых пациентов ― 12,1%, сопоставимый с данными A.N. Menzies-Gow и соавт. ― 11% [4]. Авторы отмечают низкий процент переключений и предполагают, что, возможно, тщательный выбор первого препарата, основанный на клинических характеристиках и биомаркерах, действительно приводит к хорошему ответу. Причиной низкого числа переключений также могут быть довольствование пациента и врача низкими порогами ответа (например, 50% снижение обострений или поддерживающей дозы сГКС), страх потерять незначительное улучшение при смене ГИБП, а также недостаточная информация на данный момент об эффективности переключений.
В рассмотренном исследовании A.N. Menzies-Gow и соавт. [4], как и в нашей работе, большинство переключений из-за неэффективности произошло в течение 12 месяцев от начала терапии. По рекомендациям Глобальной инициативы по бронхиальной астме (The Global Initiative for Asthma, GINA), перед первоначальной оценкой ответа рекомендуется период лечения в течение 4–6 месяцев, тогда как у пациентов с промежуточным или неясным ответом может потребоваться продление этого периода на 6–12 месяцев [13, 14]. Однако, как отмечено в работе [4], различия в сроках переключений могут быть связаны с региональными и национальными ограничениями по назначению и переключению ГИБП.
У японских исследователей доля переключённых пациентов составила 35 и 31% [15, 16]. T. Numata и соавт. [15] описывают выбор препарата первой линии, основываясь на биомаркерах (общий IgE, эозинофилы крови, фракция оксида азота в выдыхаемом воздухе ― FeNO) без учёта клинической картины. Так, например, из 35 пациентов, которым был назначен омализумаб, в 7 случаях все биомаркеры были отрицательными, или у 11 пациентов эозинофилы и общий IgE были повышены, у 4 пациентов были повышены все три маркера. Отрицательные биомаркеры наталкивают на мысль, что это были пациенты с Т2-низкой астмой. А пациенты с двумя-тремя положительными биомаркерами, возможно, имели неаллергическую эозинофильную или смешанную астму. Соответственно, в этих случаях выбор омализумаба как препарата первой линии вызывает вопросы. В работе M. Matsumoto-Sasaki и соавт. [16] нет подробного описания выбора первого препарата таргетной терапии, но настораживает утверждение, что наличие атопии было подтверждено выявлением специфических IgE хотя бы к одному ингаляционному аллергену (неясно, учитывалась ли при этом связь воздействия аллергена и возникновения клинических симптомов), а диагноз аллергического ринита выставлялся терапевтом или отоларингологом по положительному ответу на вопрос «Есть ли у вас какая-либо назальная аллергия, в том числе сенная лихорадка».
Вопрос фенотипирования и эндотипирования с целью подбора ГИБП остаётся актуальным, начиная с появления первого таргетного препарата, что подтверждает исследование OSMO [2], когда пациентов, первоначально получавших омализумаб и не достигших контроля над астмой, переводили на меполизумаб с положительной динамикой. Сами авторы указывают в обсуждении, что не для всех пациентов были известны показания для назначения омализумаба, так как это было до начала проведения исследования. К тому же, скорее всего, в период доступности только омализумаба, его назначение в части случаев было сделано пациентам с эозинофильной астмой без клинически значимого аллергического компонента.
Другие исследователи утверждают также, что ряду пациентов можно назначить таргетные препараты разного механизма действия. В работе японских авторов указано, что 30% пациентов с тяжёлой астмой имели перекрывающиеся показания для четырёх биологических препаратов (омализумаб, меполизумаб, бенрализумаб, дупилумаб), а 75% пациентам с тяжёлой астмой возможно было назначение двух или более биологических препаратов [9, 17]. В исследовании F.C. Albers и соавт. [18] сделан вывод, что среди пациентов, подходящих для лечения меполизумабом (n=101), 27–37% были пригодны и для лечения омализумабом.
На наш взгляд, выбор таргетного препарата у пациентов с аллергическим фенотипом представляет наименьшие трудности. Первой линией обычно является анти-IgE препарат. При невозможности подбора дозы омализумаба или сочетании ТБА с атопическим дерматитом препаратом выбора становится дупилумаб. В случаях с аллергической астмой переключение терапии чаще происходило по причине угасания эффекта омализумаба (рис. 4).
Рис. 4. Схема выбора стартового таргетного препарата у пациентов с тяжёлой бронхиальной астмой. В схеме представлены комбинированные данные на основе клинических рекомендаций по таргетной терапии ТБА и собственных наблюдений за эффективностью терапии у пациентов в регистре ТБА Свердловской области. ТБА ― тяжёлая бронхиальная астма; НПВП ― нестероидные противовоспалительные средства; ХРСсПН ― хронический риносинусит с полипами носа; сГКС ― системные глюкокортикоиды; АтД ― атопический дерматит.
Fig. 4. Scheme for choosing an initial biologic in patients with severe bronchial asthma. The diagram presents combined data based on clinical recommendations for targeted therapy of severe bronchial asthma and our own observations of therapy effectiveness in patients with severe bronchial asthma in the Sverdlovsk region registry. НПВП ― non-steroidal anti-inflammatory drugs; ХРСсПН ― chronic rhinosinusitis with nasal polyps; сГКС ― systemic glucocorticosteroids; АтД ― atopic dermatitis.
При неаллергической эозинофильной астме выбор стратегии таргетной терапии происходит обычно между анти-IL-5 и анти-IL-4R,13, при этом специфичных показаний, кроме указаний на стероидозависимость для дупилумаба и уровня эозинофилов ≥400 кл/мкл для реслизумаба, в инструкциях к препаратам и в литературе не описано (см. рис. 4).
Самой сложной, с точки зрения выбора класса ГИБП, является смешанная астма, так как не всегда выбор, основанный на преобладании клинической или лабораторной составляющей фенотипа, обеспечивает эффективность терапии. Обращает на себя внимание, что первоначально омализумаб был назначен 8 пациентам со смешанной астмой, из них 4 пациента имели поздний дебют бронхиальной астмы, и у этих 4 пациентов омализумаб оказался неэффективным. Таким образом, мы предполагаем, что назначение омализумаба пациентам со смешанной астмой должно быть обосновано в том числе ранним дебютом бронхиальной астмы (в возрасте младше 20 лет по данным нашего регистра). Анти-IL-5 препараты при смешанной астме назначались при эозинофилии ≥1000 кл/мкл, при этом отмен и переключений с меполизумаба и реслизумаба при смешанной астме пока не было (бенрализумаб пациентам с фенотипом J45.8 никому не назначался). Диапазон уровня эозинофилов периферической крови у пациентов со смешанной астмой, которым был назначен дупилумаб первым препаратом, составил от 110 до 500 кл/мкл (в этой группе не было переключений, но была отмена из-за побочного действия в виде конъюнктивита и артралгии у пациента с сочетанием ТБА и атопического дерматита и ещё у одного пациента по личным причинам) (см. рис. 4). Данные предположения требуют дальнейших наблюдений с участием большего числа пациентов.
Трудность выбора первого препарата в группах неаллергической эозинофильной и смешанной астмы подтверждается тем, что доля переключённых пациентов среди смешанной и неаллергической эозинофильной астмы оказалась в нашем исследовании выше, чем среди аллергической (3/19, 15,8%; 8/57, 14%; 3/40, 7,5% соответственно).
Мы получили значимое преобладание пациентов с сочетанием ТБА и ХРСсПН в группах 1 («Продолжающие») и 3 («Переключённые») по сравнению с группой 2 («Стопперы»). Сочетание ТБА с ХРСсПН значительно снижает качество жизни пациентов [19]. Вероятно, выраженные страдания, причиняемые сочетанностью заболеваний, приводят к большей приверженности лечению пациентов групп 1 и 3, тогда как пациенты группы 2 чаще отказывались от терапии по личным причинам.
Уровень эозинофилов учитывается при назначении анти-IL-5 препаратов в связи с механизмом действия этой группы. Но не у всех пациентов высокий уровень эозинофилов является предиктором хорошего ответа, в частности, на бенрализумаб. У 9 из 14 пациентов группы 3 первоначально были назначены анти-IL-5 препараты (1 ― реслизумаб, 3 ― меполизумаб, 5 ― бенрализумаб). С реслизумаба пациент был переключён из-за проблем с закупкой препарата; у 3 пациентов на меполизумабе изначально отмечался хороший ответ на терапию с последующим угасанием эффекта (длительность терапии до переключения составила 21, 23 и 35 месяцев). У 2 из 5 пациентов на бенрализумабе (уровень эозинофилов исходно 2330 и 1500 кл/мкл соответственно) также был хороший ответ с последующим снижением клинического эффекта к 16-му и 18-му месяцу терапии, однако у 3 из 5 пациентов, несмотря на исходный уровень эозинофилов 776, 950 и 1995 кл/мкл, ответа на терапию не было. Назначая пациентам с высокой эозинофилией анти-IL-5 препараты, мы планировали достичь контроля над ТБА и сопутствующим ХРСсПН. Возможно, с этим связано то, что в группе переключённых пациентов уровень эозинофилов оказался выше, чем в группах больных, продолжающих и завершивших лечение. Однако и в работах зарубежных авторов отмечается, что высокая эозинофилия является предиктором переключений между таргетными препаратами [4, 20].
По данным зарубежных авторов, кроме высокой эозинофилии, факторами-предикторами будущих переключений являются частые обострения и частое использование ресурсов здравоохранения до инициации первого препарата таргетной терапии [4, 20].
Мы переключали пациентов на дупилумаб, так как этот препарат перекрывает механизмы аллергической и неаллергической эозинофильной бронхиальной астмы и является, на наш взгляд, препаратом выбора при неудаче анти-IgE и анти-IL-5 стратегии на старте. Такая тактика показала эффективность: к 12-му месяцу терапии пациенты достигли контроля (АСТ 20,50 баллов [Q1–Q3: 18,50–24,00]), ОФВ1 увеличился до 82,83±23,96% (95% ДИ 57,69–107,98), улучшилось качество жизни, пациенты перестали нуждаться в сГКС, уменьшились назальные симптомы (SNOT-22).
Достижение ремиссии ТБА на данный момент является дискутабельной темой. В 2020 году A. Menzies-Gow и соавт. [21] предложили для определения клинической ремиссии ТБА у пациентов, получающих лечение, комбинацию признаков: отсутствие значимых симптомов астмы (оценённое с помощью валидизированных инструментов), улучшение и стабилизация функции лёгких, соглашение пациента и врача о достижении ремиссии, отсутствие потребности в сГКС для лечения обострений и поддержания контроля над астмой. Данное состояние должно продолжаться у пациента в сроки от 12 месяцев и более. В связи с наблюдением пациентов в исследовании в течение только 12 месяцев, для оценки эффективности переключения мы использовали модифицированный комбинированный показатель «стойкий контроль над ТБА», в который включили отсутствие обострений астмы, отсутствие потребности в сГКС, АСТ ≥20 баллов, ОФВ1 ≥80% должного. По нашим данным, 62,5 и 50% пациентов достигли стойкого контроля без учёта и с учётом ОФВ1 соответственно. По данным T. Numata и соавт. [15], эффективность переключения была отмечена у 32% (11 из 34) пациентов (эффективность определяли по шкале Global Evaluation of Treatment Effectiveness. F. Abbas и соавт. [22] сообщают о 26% (29 из 112) переключённых, среди которых наблюдалось снижение числа клинически значимых обострений на 40% (от 3,46 до 2,07; р=0,01), ОФВ1 (330 мл; р=0,01) и показателя ACT (3; р=0,04); 36% пациентов смогли прекратить приём сГКС.
Хочется отметить также важность сбора анамнеза по лекарственной гиперчувствительности врачами любой специальности. Сочетание у пациента ТБА с ХРСсПН должно насторожить в плане непереносимости аспирина. Пациентка, погибшая в хирургическом отделении после назначения нестероидного противовоспалительного препарата, страдала ТБА+ХРСсПН и имела реакции на нестероидные противовоспалительные препараты в анамнезе.
Ограничения исследования
Ограничения нашего исследования связаны с «неидеальными» условиями реальной клинической практики, малым размером выборки и некоторой произвольностью переходов, обусловленной отсутствием рекомендованных схем переключений между ГИБП.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, по нашим данным, проведение таргетной терапии больным ТБА в реальной клинической практике сопровождается отменой (17,2% случаев) и сменой биологических препаратов (12,1% случаев). Причинами отмены ГИБП явились личные обстоятельства (45%), нежелательные реакции (15%), достижение контроля над симптомами астмы, организационные факторы, смерть (по 10%), неэффективность по ТБА и ХРСсПН (по 5%). Выяснилось, что завершившие таргетную терапию пациенты реже страдали ХРСсПН, а дебют бронхиальной астмы у этих больных состоялся раньше, чем у пациентов, продолжающих лечение и сменивших ГИБП. Причинами смены ГИБП были неэффективность по ТБА (50%), ХРСсПН (21,4%), ТБА в сочетании с ХРСсПН (21,4%), а также организационные основания (7,1%). Основная причина переключения ― неэффективность терапии по ТБА и/или сопутствующим Т2-заболеваниям. У большей части переключённых пациентов стартовыми препаратами были омализумаб и бенрализумаб. Альтернативным ГИБП при смене биологического препарата был дупилумаб.
Смена стартового ГИБП, направленного на блокирование только эозинофилов или только IgE, вследствие его неэффективности у некоторых пациентов на препарат с двойным механизмом действия (подавление продукции IgE и эозинофильного воспаления) приводит к существенному улучшению показателей АСТ, ОФВ1, AQLQ; уменьшению выраженности сопутствующих назальных симптомов (SNOT-22) и отсутствию потребности в сГКС.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования и подготовке публикации.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с проведённым исследованием и публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: В.В. Наумова ― концепция статьи, концепция и дизайн исследования, написание текста статьи, сбор и обработка данных, обзор литературы, перевод на английский язык, статистический анализ; Е.К. Бельтюков ― концепция статьи, концепция и дизайн исследования, редактирование, статистический анализ, окончательное одобрение; Д.В. Киселева ― написание текста статьи, сбор и обработка данных, обзор литературы, перевод на английский язык; Г.А. Быкова ― сбор и обработка данных, обзор литературы; О.Г. Смоленская ― концепция и дизайн исследования, статистический анализ, редактирование; А.А. Штанова, Д.А. Степина ― написание текста статьи, обзор литературы.
ADDITIONAL INFORMATION
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. V.V. Naumova ― article concept, study concept and design, text development, data collection and processing, literature review, translation into English, statistical analysis; E.K. Beltyukov ― article concept, study concept and design, editing, statistical analysis, final approval; D.V. Kiseleva ― text development, collecting and processing data, literature review, translation into English; G.A. Bykova ― data collection and processing, literature review; O.G. Smolenskaya ― study concept and design, statistical analysis, editing; A.A. Shtanova, D.A. Stepina ― text development, literature review.
Об авторах
Вероника Викторовна Наумова
Уральский государственный медицинский университет
Email: nika.naumova@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-3028-2657
SPIN-код: 8210-6478
канд. мед. наук
Россия, ЕкатеринбургЕвгений Кронидович Бельтюков
Уральский государственный медицинский университет
Email: asthma@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2485-2243
SPIN-код: 6987-1057
ResearcherId: AAI-1608-2020
д-р мед. наук, профессор, чл.-корр. РАН
Россия, ЕкатеринбургДарина Викторовна Киселева
Уральский государственный медицинский университет
Email: darinakiseljova@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7847-5415
SPIN-код: 9446-7866
Россия, Екатеринбург
Галина Александровна Быкова
Уральский государственный медицинский университет
Email: Center-ao@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0003-0823-4605
SPIN-код: 2918-8690
канд. мед. наук
Россия, ЕкатеринбургОльга Георгиевна Смоленская
Уральский государственный медицинский университет
Email: o.smolenskaya@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0705-6651
SPIN-код: 5443-9382
д-р мед. наук, профессор
Россия, ЕкатеринбургАлександра Александровна Штанова
Уральский государственный медицинский университет
Email: alekshtanova@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-8104-0017
SPIN-код: 1086-9994
Россия, Екатеринбург
Дарья Артемовна Степина
Уральский государственный медицинский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: d.stepina37@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-5365-7792
SPIN-код: 6198-1141
Россия, Екатеринбург
Список литературы
- Agache I., Akdis C.A., Akdis M., et al. EAACI biologicals guidelines-recommendations for severe asthma // Allergy. 2021. Vol. 76, N 1. Р. 14–44. doi: 10.1111/all.14425
- Chapman K.R., Albers F.C., Chipps B., et al. The clinical benefit of mepolizumab replacing omalizumab in uncontrolled severe eosinophilic asthma // Allergy. 2019. Vol. 74, N 9. Р. 1716–1726. doi: 10.1111/all.13850
- Bakakos A., Rovina N., Loukides S., Bakakos P. Biologics in severe asthma: Outcomes in clinical trials-similarities and differences // Expert Opin Biol Ther. 2022. Vol. 22, N 7. Р. 855–870. doi: 10.1080/14712598.2022.2091409
- Menzies-Gow A.N., McBrien C., Unni B., et al. Real world biologic use and switch patterns in severe asthma: Data from the International severe asthma registry and the US CHRONICLE study // J Asthma Allergy. 2022. N 15. Р. 63–78. doi: 10.2147/JAA.S328653
- Papaioannou A.I., Fouka E., Papakosta D., et al. Switching between biologics in severe asthma patients. When the first choice is not proven to be the best // Clin Exp Allergy. 2021. Vol. 51, N 2. Р. 221–227. doi: 10.1111/cea.13809
- Yilmaz İ., Paçacı Çetin G., Arslan B., et al. Biological therapy management from the initial selection of biologics to switching between biologics in severe asthma // Tuberk Toraks. 2023. Vol. 71, N 1. Р. 75–93. doi: 10.5578/tt.20239910
- Pham D.D., Lee J.H., Kwon H.S., et al. Prospective direct comparison of biological treatments on severe eosinophilic asthma: Findings from the PRISM study // Ann Allergy Asthma Immunol 2023. Vol. 1081-1206, N 23. Р. 01402–01403. doi: 10.1016/j.anai.2023.11.005
- Pavord I.D., Hanania N.A., Corren J. Controversies in allergy: Choosing a biologic for patients with severe asthma // J Allergy Clin Immunol Pract. 2022. Vol. 10, N 2. Р. 410–419. doi: 10.1016/j.jaip.2021.12.014
- Nagase H., Suzukawa M., Oishi K., Matsunaga K. Biologics for severe asthma: The real-world evidence, effectiveness of switching, and prediction factors for the efficacy // Allergol Int. 2023. Vol. 72, N 1. Р. 11–23. doi: 10.1016/j.alit.2022.11.008
- Chung K.F., Wenzel S.E., Brozek J.L., et al. International ERS/ATS guidelines on definition, evaluation and treatment of severe asthma // Eur Respir J. 2014. Vol. 43, N 2. Р. 343–373. doi: 10.1183/09031936.00202013
- Global Initiative for Asthma [интернет]. Global strategy for asthma management and prevention. National Institutes of Health. Diagnosis and Management of Difficult-to-Treat and Severe Asthma in Adolescent and Adult Patients. National Heart, Lung, and Blood Institute. Revised, 2019. Режим доступа: http://www.ginasthma.org. Дата обращения: 09.02.2023.
- Buhl R., Humbert M., Bjermer L., et al. Severe eosinophilic asthma: A roadmap to consensus // Eur Respir J. 2017. Vol. 49, N 5. Р. 1700634. doi: 10.1183/13993003.00634-2017
- Global Initiative for Asthma [интернет]. Global strategy for asthma management and prevention. National Institutes of Health. National Heart, Lung, and Blood Institute. Revised, 2022. Режим доступа: http://www.ginasthma.org. Дата обращения: 09.02.2023.
- Pepper A.N., Hanania N.A., Humbert M., Casale T.B. How to assess effectiveness of biologics for asthma and what steps to take when there is not benefit // J Allergy Clin Immunol Pract. 2021. Vol. 9, N 3. Р. 1081–1088. doi: 10.1016/j.jaip.2020.10.048
- Numata T., Araya J., Miyagawa H., et al. Effectiveness of switching biologics for severe asthma patients in Japan: A single-center retrospective study // J Asthma Allergy. 2021. Vol. 14. Р. 609–618. doi: 10.2147/JAA.S311975
- Matsumoto-Sasaki M., Simizu K., Suzuki M., et al. Clinical characteristics of patients and factors associated with switching biologics in asthma // J Asthma Allergy. 2022. N 15. Р. 187–195. doi: 10.2147/JAA.S348513
- Ito A., Miyoshi S., Toyota H., et al. The overlapping eligibility for biologics in patients with severe asthma and phenotypes // Arerugi. 2022. Vol. 71, N 3. Р. 210–220. doi: 10.15036/arerugi.71.210
- Albers F.C., Müllerová H., Gunsoy N.B., et al. Biologic treatment eligibility for real-world patients with severe asthma: The IDEAL study // J Asthma. 2018. Vol. 55, N 2. Р. 152–160. doi: 10.1080/02770903.2017.1322611
- Farhood Z., Schlosser R.J., Pearse M.E., et al. Twenty-two-item sino-nasal outcome test in a control population: A cross-sectional study and systematic review // Int Forum Allergy Rhinol. 2016. Vol. 6, N 3. Р. 271–277. doi: 10.1002/alr.21668
- Kim J., Naclerio R. Therapeutic potential of dupilumab in the treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyps: Evidence to date // Ther Clin Risk Manag. 2020. N 16. Р. 31–37. doi: 10.2147/TCRM.S210648
- Menzies-Gow A., Bafadhel M., Busse W.W., et al. An expert consensus framework for asthma remission as a treatment goal // J Allergy Clin Immunol. 2020. Vol. 145, N 3. Р. 757–765. doi: 10.1016/j.jaci.2019.12.006
- Abbas F., Georas S., Cai X., Khurana S. Asthma biologics: Real-World effectiveness, impact of switching biologics, and predictors of response // Ann Allergy Asthma Immunol. 2021. Vol. 127, N 6. Р. 655–660. doi: 10.1016/j.anai.2021.08.416
Дополнительные файлы