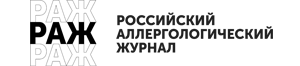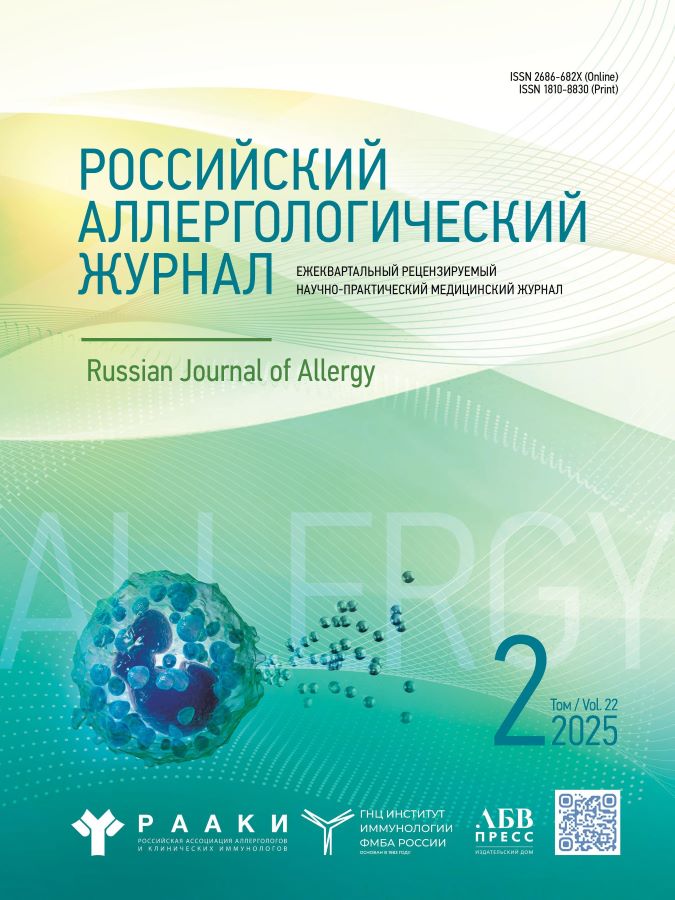Эпидемиология хронических индуцированных крапивниц в городе Москве
- Авторы: Фомина Д.С.1,2, Мальцева Н.П.1, Сердотецкова С.А.1, Данилычева И.В.3, Лебедкина М.С.1, Михайлова В.И.1, Ковалькова Е.В.1, Чикунов Н.С.4, Караулов А.В.2, Лысенко М.А.1
-
Учреждения:
- Городская клиническая больница № 52
- Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
- Государственный научный центр «Институт иммунологии»
- Московский центр инновационных технологий в здравоохранении
- Выпуск: Том 19, № 3 (2022)
- Страницы: 317-327
- Раздел: Оригинальные исследования
- Дата подачи: 23.08.2022
- Дата принятия к публикации: 16.09.2022
- Дата публикации: 07.10.2022
- URL: https://rusalljournal.ru/raj/article/view/1573
- DOI: https://doi.org/10.36691/RJA1573
- ID: 1573
Цитировать
Аннотация
Обоснование. Хронические индуцированные формы крапивницы ― группа заболеваний, характеризуемая развитием уртикарных высыпаний и/или ангиоотёков в течение 6 и более недель в ответ на воздействие специфических триггеров. По данным мировой научной литературы, встречаемость хронических индуцированных форм крапивницы достаточно высока и составляет 0,5% общей популяции и примерно 20–30% всех хронических крапивниц. Статистических данных о распространённости физических форм крапивницы в Российской Федерации нет.
Цель ― оценка эпидемиологии хронических индуцированных крапивниц в рамках популяции одного региона.
Материалы и методы. Анализ осуществлялся посредством подсчёта количества уникальных случаев обращений взрослого населения по поводу данной патологии в амбулаторных формах Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) г. Москвы с 2017 по 2021 г., включая поиск по ключевым словам.
Результаты. Распространённость хронических индуцированных форм крапивницы в Москве коррелирует с опубликованными международными эпидемиологическими данными. Среди обратившихся по поводу хронических индуцированных форм крапивницы превалировали женщины (74,2%), медиана возраста составила 43,0 года (37 лет у мужчин и 46,4 года у женщин). Из всех верифицированных случаев хронических индуцированных форм крапивницы самым распространённым типом является дермографическая крапивница (11,12%), далее следуют контактная (5,36%), холинергическая (2,28%), холодовая (1,92%), замедленная крапивница от давления (0,36%), вибрационная (0,11%), аквагенная (0,1%) и тепловая (0,08%) формы. Показатели хронических индуцированных форм крапивницы в Москве высоки и так же, как и в мировой практике, имеют значимую тенденцию к росту. Необходимо внедрение провокационного тестирования для верификации диагноза, использование валидизированных опросников и систематического наблюдения пациентов с хроническими индуцированными формами крапивницы.
Заключение. Таким образом, необходимо дальнейшее изучение данной когорты пациентов с целью верификации диагноза, оценки тяжести течения хронических индуцированных форм крапивницы, коморбидных заболеваний и ответа на проводимую терапию.
Полный текст
ОБОСНОВАНИЕ
Хронические индуцированные формы крапивницы (ХИНДК) характеризуются появлением уртикарных элементов и/или ангиоотёков продолжительностью 6 нед и более в ответ на воздействие специфических триггеров [1−3]. В зависимости от характера провоцирующего фактора ХИНДК подразделяют на две группы: крапивницы, обусловленные физическими (холодовая, тепловая, солнечная, вибрационная, замедленная от давления, симптоматический дермографизм) и нефизическими (холинергическая, аквагенная, контактная) факторами [1, 3, 4].
По данным мировой научной литературы, встречаемость ХИНДК достаточно высока и составляет 0,5% общей популяции и примерно 20–30% всех хронических крапивниц [4, 5]. Самый распространённый тип ХИНДК ― симптоматический дермографизм, встречаемость которого составляет 2−5% в общей популяции и 10% всех хронических крапивниц [6]. Частота выявления холодовой крапивницы, по данным различных авторов, достигает 0,05% в общей популяции и 5–30% среди всех физических крапивниц; в странах с холодным климатом эти показатели ещё выше [7−9]. Холинергическую крапивницу диагностируют в 11,2% случаев, чаще в возрасте 26–28 лет (до 20% пациентов) [10]. Солнечную, тепловую крапивницы и вибрационный ангиоотёк относят к редким формам ХИНДК и выявляют в 0,5; 0,2 и 0,1% всех хронических крапивниц соответственно [11].
Пик заболеваемости ХИНДК, по данным большинства научных работ, приходится на молодой возраст ― II–IV декаду жизни [10, 12]. Отдельные виды ХИНДК (например, холодовая крапивница) могут рецидивировать в течение 20 лет и более; в целом для ХИНДК характерны бóльшая длительность заболевания и меньшая частота случаев спонтанной ремиссии в течение одного года в сравнении с хронической спонтанной крапивницей [13, 14].
По данным исследования фенотипов хронических крапивниц L. Curto-Barredo и соавт. [15], ХИНДК отличаются более редкой встречаемостью сопутствующих аутоиммунных заболеваний и низкой частотой развития ангиоотёков. Для ХИНДК, в частности холодовой и холинергической, характерен высокий процент развития системных реакций, особенно на фоне массивной экспозиции причинно-значимого триггера: например, при погружении в холодную воду, проведении длительного оперативного вмешательства пациентам с холодовой крапивницей; повышенных физических нагрузках с интенсивным потоотделением больных холинергической крапивницей [16, 17]. По данным различных исследователей, частота встречаемости коморбидной ассоциации хронической спонтанной крапивницы и ХИНДК в среднем отмечается у 1/3 пациентов [13, 18]. Согласно результатам J. Sánchez и соавт. [19], ХИНДК сопровождает хроническую спонтанную крапивницу в 76,9% случаев. Большинство авторов полагает, что наличие ХИНДК у пациента с хронической спонтанной крапивницей ― предиктор более тяжёлого и длительного течения заболевания [20]. Описаны также случаи сосуществования нескольких ХИНДК у одного пациента, но масштабные исследования подобных сочетаний не проводились [20–24].
Патогенез ХИНДК в настоящее время изучен не до конца. Механизм активации тучных клеток кожи посредством воздействия физического триггера или повышения температуры тела на данный момент окончательно не ясен. Безусловную роль играют активация и дегрануляция тучных клеток с последующим высвобождением гистамина и других провоспалительных медиаторов [25].
Для верификации диагноза ХИНДК используют анамнестические данные, подтверждающие фотографии кожного процесса, результаты провокационного тестирования [26]. Проведение провокационных тестов позволяет определить порог специфического триггера, оценить эффективность лекарственной терапии и дать персонифицированные рекомендации пациенту [27, 28].
Основная задача терапии ХИНДК ― ограничение контакта с провоцирующим триггером, что не всегда достижимо в реальной жизни. Первая линия медикаментозной терапии ― неседативные блокаторы Н1-гистаминовых рецепторов, позволяющие в стандартной дозе достигнуть контроль над симптомами заболевания в среднем у 20–30% пациентов с ХИНДК [5]. Повышение дозы антигистаминных препаратов до двух- или четырёхкратной несколько повышает успех терапии [29, 30]. Однако во многих исследованиях представлены результаты худшей эффективности данной терапии у пациентов с коморбидным течением ХИНДК и хронической спонтанной крапивницы [28, 31]. Согласно результатам ряда клинических исследований, у пациентов, не ответивших на лечение антигистаминными препаратами, может быть эффективна терапия омализумабом [32–36], однако применение данного препарата ограничено в связи с отсутствием официальных клинических рекомендаций его назначения при ХИНДК. Омализумаб можно применять в качестве терапии off label или у пациентов с сопутствующей хронической спонтанной крапивницей.
Таким образом, дальнейшее изучение ХИНДК, а именно вопросов эпидемиологии, патогенеза, коморбидной патологии, диагностических алгоритмов, эффективности терапии и причин её неэффективности, обусловлено актуальностью данной проблемы: для пациентов с ХИНДК характерны молодой возраст, выраженная длительность персистенции симптомов крапивницы, высокий риск анафилаксии, снижение качества жизни, частая торпидность к проводимому лечению [10, 12–14, 16, 17, 20].
Цель исследования ― оценить эпидемиологию индуцированных форм крапивницы посредством подсчёта количества уникальных случаев обращений взрослого населения по поводу данной патологии в амбулаторных формах ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система г. Москвы), включая поиск по ключевым словам.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Дизайн исследования
Проведён ретроспективный кросс-секционный анализ данных амбулаторных карт посредством выгрузки из электронной медицинской системы ЕМИАС г. Москвы с 2017 по 2021 г.
Критерии соответствия
Критерием соответствия случая для его включения в исследование являлся факт обращения пациента за медицинской помощью по поводу хронической крапивницы (код L50 в Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, Десятого пересмотра, МКБ-10) или наличие следующих ключевых слов и словосочетаний: «индуцированная», «холодовая», «дермографическая», «замедленная крапивница от давления», «солнечная», «холинергическая», «тепловая», «аквагенная», «вибрационная», «контактная крапивница».
Для расчёта показателя «Обращение по поводу данного заболевания» использовали такие ситуации, как результат осмотра одного из врачей, где указан код L50.8 по МКБ-10, не учитывая тип диагноза (осмотр терапевта, осмотр аллерголога-иммунолога, осмотр педиатра, осмотр хирурга, осмотр дерматовенеролога), результаты осмотров других специалистов и выписные эпикризы, где тип диагноза указан как «Основной», «Осложнение основного заболевания» или «Конкурирующий».
Выбор списка специалистов обусловлен наличием ключевых слов в описании диагнозов (в результатах осмотра) для тех случаев, в которых для крапивницы не указан тип диагноза как «Основной», «Осложнение основного заболевания» или «Конкурирующий».
Статистический анализ
Размер выборки предварительно не рассчитывался.
Показатель количества уникальных случаев обращения рассчитывался как количество уникальных пациентов, которые хотя бы раз обращались по поводу крапивницы за каждый исследуемый год.
Количество мужчин/женщин, обратившихся по поводу хронических индуцированных крапивниц, и возраст обратившихся рассчитывались как показатели количества уникальных пациентов, которые хотя бы раз обращались по поводу крапивницы в исследуемом году.
Для подсчёта показателя «Процентное соотношение к общему количеству случаев у пациентов с хроническими индуцированными крапивницами» использовалось общее количество обращений в исследуемом году, а не за весь период наблюдения.
Для подсчёта разделов «Сопутствующая аллергопатология» и «Прочие сопутствующие заболевания» использовали количество фактов вхождения хотя бы одного из кодов сопутствующих заболеваний у пациентов с индуцированными крапивницами.
Пакет специализированных статистических программ для расчёта не использовался.
РЕЗУЛЬТАТЫ
С января 2017 г. по декабрь 2021 г. за амбулаторной медицинской помощью в медицинские организации Департамента здравоохранения г. Москвы обратились 127 847 человек старше 18 лет, которым был выставлен диагноз «Хроническая крапивница» (L50 по МКБ-10), из них 17 715 (13,8%) ― по поводу ХИНДК (L50.2; L50.3; L50.4; L50.5; L50.6; L50.8 по МКБ-10).
Среди наблюдавшихся по поводу ХИНДК превалировали женщины (74,2%). За медицинской помощью по данному заболеванию обращались пациенты в возрасте от 18 до 99 лет, медиана возраста 43,0 года (37 лет у мужчин и 46,4 года у женщин).
В 77,32% случаев триггерный фактор возникновения высыпаний при ХИНДК не определён ввиду того, что провокационное тестирование у данной группы пациентов не проводилось. В случаях, когда триггерный фактор был определён, выявлено следующее соотношение типов ХИНДК: наиболее распространённый ― дермографическая крапивница (1948 человек; 11,12%), далее следуют контактная (950; 5,36%), холинергическая (403; 2,28%), холодовая (340; 1,92%), замедленная от давления (64; 0,36%), вибрационная (20; 0,11%), аквагенная (19; 0,1%) и тепловая (14; 0,08%). На рис. 1 отображена диаграмма распространённости различных форм индуцированных крапивниц относительно всех верифицированных случаев заболевания.
Рис. 1. Соотношение частоты встречаемости хронических индуцированных крапивниц, %.
Среди пациентов с ХИНДК регистрировалась следующая распространённость сопутствующих аллергических заболеваний: превалировал аллергический ринит (720 человек; 4,06%), на втором месте ― бронхиальная астма (716; 4,04%), затем атопический дерматит (103; 0,32%) и аллергический конъюнктивит (29; 0,17%); рис. 2.
Рис. 2. Частота встречаемости сопутствующих аллергических заболеваний у пациентов с хроническими индуцированными крапивницами.
Изучалось также сочетание некоторых сопутствующих патологий, в том числе Th2-ассоциированных и аутоиммунных заболеваний, которые ранее рассматривались как факторы риска затяжного течения хронической спонтанной крапивницы у пациентов с ХИНДК. Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, эозинофильные эзофагиты) отметили у 14 (0,08%) человек, эндокринологические заболевания (хронический аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет 1-го типа) ― у 14 (0,08%), аутоиммунные заболевания (витилиго, синдром Шегрена, анкилозирующий спондилит, склеродермия) ― у 16 (0,09%), заболевания ЛОР-органов (хронический полипозный риносинусит) ― у 11 (0,06%), гематологические заболевания (В12-дефицитная анемия) ― у 34 (0,19%); рис. 3.
Рис. 3. Частота встречаемости коморбидных заболеваний у пациентов с хроническими индуцированными крапивницами.
Примечание. ЖКТ ― желудочно-кишечный тракт; ЛОР ― ларингооторинологические заболевания.
ОБСУЖДЕНИЕ
Самый распространённый тип ХИНДК в Москве ― дермографическая крапивница, что коррелирует с данными общемировой литературы. В мировой практике второе по встречаемости место среди ХИНДК занимает холодовая крапивница; в Москве данное заболевание находится лишь на четвёртом месте, что, возможно, обусловлено низкой настороженностью специалистов первичного звена по поводу данной патологии. По той же причине ― недостаточной ориентированности специалистов первичного звена в типах ХИНДК и отсутствия повсеместной практики проведения провокационных тестов ― контактная крапивница занимает столь высокое положение в данном исследовании.
Стоит также учитывать, что распределение различных типов ХИНДК может измениться после проведения провокационного тестирования и верификации диагноза. Вероятнее всего, превалировать всё так же будет дермографическая крапивница ввиду наиболее простой методики тестирования (штрих-тест), которая может быть осуществлена врачами вне условий специализированных профильных центров для подтверждения диагноза. Однако с 2017 по 2021 г. отмечено увеличение в несколько раз обращаемости не только пациентов с холодовой крапивницей, но и с другими типами ХИНДК, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, значительно ограничившей возможности амбулаторной помощи в 2020 г. Данная тенденция может быть обусловлена не только истинным ростом заболеваемости ХИНДК, но и активной информационно-просветительской работой UCARE1-центров в отношении популяризации и внедрения в клиническую практику протоколов исследования ХИНДК, что увеличивает настороженность специалистов амбулаторного звена и процент верифицированных диагнозов (рис. 4, 5).
Рис. 4. Динамика роста обращаемости пациентов с холинергической, холодовой и дермографической крапивницей за медицинской помощью.
Рис. 5. Динамика роста обращаемости пациентов с замедленной крапивницей от давления за медицинской помощью.
Данные о превалировании пациентов женского пола среди данной группы заболеваний, а также медиана возраста дебюта, приходящегося на 3–4-е десятилетие жизни, также коррелирует с международными данными.
Низкая распространённость атопических заболеваний в группе пациентов с ХИНДК свидетельствует о том, что в патогенезе данного заболевания могут участвовать не только «истинно аллергические» реакции гиперчувствительности немедленного типа, но и аутоиммунные и аутоаллергические механизмы, при которых происходит неспецифическая активация тучных клеток и базофилов.
Ограничения исследования
В целом для исследования характерна лимитированность применения провокационного тестирования. Несмотря на то, что метод в настоящий момент является золотым стандартом не только в контексте верификации диагноза, но и в определении плана ведения и перспектив терапии данной группы заболеваний, зачастую диагноз ХИНДК выставлялся специалистами первичного звена либо эмпирически, либо на основании клинико-анамнестических данных. Для актуальной дифференциальной диагностики данного пула пациентов необходимо проактивное наблюдение и проведение стандартизированных методов провокационного тестирования.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты свидетельствуют о том, что распространённость ХИНДК в Москве коррелирует с опубликованными международными эпидемиологическими данными, показатели её высоки и имеют значимую тенденцию к росту, как и в мировой практике. Однако ограничением данного исследования выступили отсутствие повсеместно распространённого протокола провокационных тестов, невозможность проведения некоторых видов провокационного тестирования на амбулаторном этапе, низкий процент использования валидизированных опросников и систематического наблюдения пациентов с ХИНДК. Таким образом, необходимо дальнейшее изучение данной когорты пациентов с целью верификации диагноза, оценки тяжести течения ХИНДК, коморбидных заболеваний и ответа на проводимую терапию.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Источник финансирования. Авторы заявляют об отсутствии внешнего финансирования при проведении исследования и подготовке публикации.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с проведением исследования и публикацией настоящей статьи.
Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства международным критериям ICMJE (все авторы внесли существенный вклад в разработку концепции, проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию перед публикацией). Наибольший вклад распределён следующим образом: Д.С. Фомина ― обзор литературы, сбор и анализ литературных источников, написание текста статьи, редактирование статьи; Н.П. Мальцева, С.А. Сердотецкова ― обзор литературы, сбор и анализ литературных источников, анализ данных исследования, написание текста статьи, редактирование статьи; И.В. Данилычева ― обзор литературы, сбор и анализ литературных источников, редактирование статьи; М.С. Лебедкина, В.И. Михайлова ― анализ данных исследования, написание текста статьи; Е.В. Ковалькова ― обзор литературы, сбор и анализ литературных источников, анализ данных исследования; Н.С. Чикунов — подготовка данных для дальнейшей аналитики и тестирования гипотез в рамках исследования; А.В. Караулов, М.А. Лысенко ― курация проводимого исследования.
ADDITIONAL INFORMATION
Funding source. This study was not supported by any external sources of funding.
Competing interests. The authors declare that they have no competing interests.
Authors’ contribution. All authors made a substantial contribution to the conception of the work, acquisition, analysis, interpretation of data for the work, drafting and revising the work, final approval of the version to be published and agree to be accountable for all aspects of the work. D.S. Fomina ― a literature review, a literature collection and analysis, writing an article, editing of the article; N.P. Maltseva, S.A. Serdotetskova ― a literature review, a literature collection and analysis, data analysis, writing an article, editing of the article; I.V. Danilycheva ― a literature review, a literature collection and analysis, editing of the article; M.S. Lebedkina, V.I. Mikhaylova ― data analysis, writing an article; E.V. Kovalkova ― a literature review, a literature collection and analysis, data analysis; N.S. Chikunov — preparation data for further analysis and hypothesis testing, A.V. Karaulov, M.A. Lysenko ― oversaw the study.
1 UCARE-центр (Urticaria Centers of Reference and Excellence) — Референсный центр соответствия по лечению крапивницы.
Об авторах
Дарья Сергеевна Фомина
Городская клиническая больница № 52; Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: daria_fomina@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5083-6637
SPIN-код: 3023-4538
к.м.н., доцент
Россия, Москва; МоскваНаталья Петровна Мальцева
Городская клиническая больница № 52
Email: filippova-nataly@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-4022-3570
SPIN-код: 2588-5718
MD
Россия, МоскваСофья Александровна Сердотецкова
Городская клиническая больница № 52
Email: darklynx813@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-8472-1152
SPIN-код: 6644-6715
MD
Россия, МоскваИнна Владимировна Данилычева
Государственный научный центр «Институт иммунологии»
Email: ivdanilycheva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-8279-2173
SPIN-код: 4547-3948
к.м.н.
Россия, МоскваМарина Сергеевна Лебедкина
Городская клиническая больница № 52
Email: marina.ivanova0808@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-9545-4720
SPIN-код: 1857-8154
MD
Россия, МоскваВалерия Игоревна Михайлова
Городская клиническая больница № 52
Email: lera1208@list.ru
ORCID iD: 0000-0003-0921-9212
SPIN-код: 2841-9652
MD
Россия, МоскваЕлена Вячеславовна Ковалькова
Городская клиническая больница № 52
Email: kovalkova@ya.ru
ORCID iD: 0000-0002-1212-3767
SPIN-код: 3078-0976
MD
Россия, МоскваНикита Сергеевич Чикунов
Московский центр инновационных технологий в здравоохранении
Email: artlicasio@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-0643-9423
MD
Россия, МоскваАлександр Владимирович Караулов
Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет)
Email: drkaraulov@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1930-5424
SPIN-код: 4122-5565
д.м.н., профессор
Россия, МоскваМарьяна Анатольевна Лысенко
Городская клиническая больница № 52
Email: gkb52@zdrav.mos.ru
ORCID iD: 0000-0001-6010-7975
SPIN-код: 3887-6250
д.м.н.
Россия, МоскваСписок литературы
- Российская ассоциация аллергологов и клинических иммунологов; Российское общество дерматовенерологов и косметологов. Клинические рекомендации. Крапивница. Москва, 2019. 60 с.
- Борзова Е.Ю. Диагностика хронических индуцированных крапивниц // Российский аллергологический журнал. 2019. Т. 16, № 2. С. 5−13.
- Zuberbier T., Latiff A.H., Abuzakouk M., et al. The international EAACI/GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria // Allergy. 2022. Vol. 77, N 3. Р. 734–766. doi: 10.1111/all.15090
- Dice J.P. Physical urticaria // Immunology and allergy clinics of North America. 2004. Vol. 24, N 2. Р. 225–246.vi. doi: 10.1016/j.iac.2004.01.005
- Maurer M., Fluhr J.W., Khan D.A. How to approach chronic inducible urticaria // J Allergy Clin Immunol Pract. 2018. Vol. 6, N 4. Р. 1119–1130. doi: 10.1016/j.jaip.2018.03.007
- Weller K., Altrichter S., Ardelean E., et al. Chronic urticaria. Prevalence, course, prognostic factors and impact. (In German) // Hautarzt. 2010. Vol. 61, N 9. Р. 750–757. doi: 10.1007/s00105-010-1933-8
- Siebenhaar F., Weller K., Mlynek A., et al. Acquired cold urticaria: clinical picture and update on diagnosis and treatment // Clin Experimental Dermatol. 2007. Vol. 32, N 3. Р. 241–245. doi: 10.1111/j.1365-2230.2007.02376.x
- Möller A., Henz B.M. Cold urticaria // Henz B.M., Zuberbier T., Grabbe J., Monroe E., eds. Urticaria. Springer; 1998. Р. 69−78.
- Katsarou-Katsari A., Makris M., Lagogianni E., et al. Clinical features and natural history of acquired cold urticaria in a tertiary referral hospital: a 10-year prospective study // JEADV. 2008. Vol. 22, N 12. Р. 1405–1411. doi: 10.1111/j.1468-3083.2008.02840.x
- Zuberbier T., Althaus C., Chantraine-Hess S., Czarnetzki B.M. Prevalence of cholinergic urticaria in young adults // J Am Academy Dermatol. 1994. Vol. 31, N 6. Р. 978–981. doi: 10.1016/s0190-9622(94)70267-5
- Chong W.S., Khoo S.W. Solar urticaria in Singapore: an uncommon photodermatosis seen in a tertiary dermatology center over a 10-year period // Photodermatol Photoimmunol Photomed. 2004. Vol. 20, N 2. Р. 101–104. doi: 10.1111/j.1600-0781.2004.00083.x
- Kontou-Fili K., Borici-Mazi R., Kapp A., et al. Physical urticaria: classification and diagnostic guidelines. An EAACI position paper // Allergy. 1997. Vol. 52, N 5. Р. 504–513. doi: 10.1111/j.1398-9995.1997.tb02593.x
- Jain S.V., Mullins R.J. Cold urticaria: a 20-year follow-up study // JEADV. 2016. Vol. 30, N 12. Р. 2066–2071. doi: 10.1111/jdv.13841
- Kring T.L., Stahl S.P., Bjerremann J.L., et al. Cold urticaria patients exhibit normal skin levels of functional mast cells and histamine after tolerance induction // Dermatol (Basel Switzerland). 2012. Vol. 224, N 2. Р. 101–105. doi: 10.1159/000336572
- Curto-Barredo L., Archilla L.R., Vives G.R., et al. Clinical features of chronic spontaneous urticaria that predict disease prognosis and refractoriness to standard treatment // Acta Derm Venereol. 2018. Vol. 98, N 7. Р. 641–647. doi: 10.2340/00015555-2941
- Vadas P., Sinilaite A., Chaim M. Cholinergic urticaria with anaphylaxis: an underrecognized clinical entity // J Allergy Clin Immunol Pract. 2016. Vol. 4, N 2. Р. 284–291. doi: 10.1016/j.jaip.2015.09.021
- Bizjak M., Košnik M., Dinevski D., et al. Risk factors for systemic reactions in typical cold urticaria: results from the COLD-CE study // Allergy. 2022. Vol. 77, N 7. Р. 2185–2199. doi: 10.1111/all.15194
- Trevisonno J., Balram B., Netchiporouk E., Ben-Shoshan M. Physical urticaria: review on classification, triggers and management with special focus on prevalence including a meta-analysis // Postgraduate Med. 2015. Vol. 127, N 6. Р. 565–570. doi: 10.1080/00325481.2015.1045817
- Sánchez J., Amaya E., Acevedo A., et al. Prevalence of inducible urticaria in patients with chronic spontaneous urticaria: associated risk factors // J Allergy Clin Immunol Pract. 2017. Vol. 5, N 2. Р. 464–470. doi: 10.1016/j.jaip.2016.09.029
- Kozel M.M., Mekkes J.R., Bossuyt P.M., Bos J.D. Natural course of physical and chronic urticaria and angioedema in 220 patients // J Am Academy Dermatol. 2001. Vol. 45, N 3. Р. 387–391. doi: 10.1067/mjd.2001.116217
- Diehl K.L., Erickson C., Calame A., Cohen P.R. A woman with solar urticaria and heat urticaria: a unique presentation of an individual with multiple physical urticarias // Cureus. 2021. Vol. 13, N 8. Р. e16950. doi: 10.7759/cureus.16950
- Cheon H.W., Han S.J., Yeo S.J., et al. A case of combined cholinergic and cold urticaria // Korean J Internal Med. 2012. Vol. 27, N 4. Р. 478–479. doi: 10.3904/kjim.2012.27.4.478
- Zimmer S., Peveling-Oberhag A., Weber A., et al. Unique coexistence of cold and solar urticaria and its efficient treatment // Brit J Dermatol. 2016. Vol. 174, N 5. Р. 1150–1152. doi: 10.1111/bjd.14354
- Mathelier-Fusade P., Aissaoui M., Chabane M.H., et al. Association of cold urticaria and aquagenic urticaria // Allergy. 1997. Vol. 52, N 6. Р. 678–679. doi: 10.1111/j.1398-9995.1997.tb01055.x
- Church M.K., Kolkhir P., Metz M., Maurer M. The role and relevance of mast cells in urticaria // Immunol Rev. 2018. Vol. 282, N 1. Р. 232–247. doi: 10.1111/imr.12632
- Magerl M., Altrichter S., Borzova E., et al. The definition, diagnostic testing, and management of chronic inducible urticarias ― The EAACI/GA2LEN/EDF/UNEV consensus recommendations 2016 update and revision // Allergy. 2016. Vol. 71, N 6. Р. 780–802. doi: 10.1111/all.12884
- Pereira A., Motta A.A., Kalil J., Agondi R.C. Chronic inducible urticaria: confirmation through challenge tests and response to treatment // Einstein (Sao Paulo Brazil). 2020. Vol. 18. Р. eAO5175. doi: 10.31744/einstein_journal/2020ao5175
- Maurer M., Giménez-Arnau A., Ensina L.F., et al. Chronic urticaria treatment patterns and changes in quality of life: AWARE study 2-year results // World Allergy Organization J. 2020. Vol. 13, N 9. Р. 100460. doi: 10.1016/j.waojou.2020.100460
- Koch K., Weller K., Werner A., et al. Antihistamine updosing reduces disease activity in patients with difficult-to-treat cholinergic urticaria // J Allergy Clin Immunol. 2016. Vol. 138, N 5. Р. 1483–1485.e9. doi: 10.1016/j.jaci.2016.05.026
- Abajian M., Curto-Barredo L., Krause K., et al. Rupatadine 20 mg and 40 mg are effective in reducing the symptoms of chronic cold urticaria // Acta Derm Venereol. 2016. Vol. 96, N 1. Р. 56–59. doi: 10.2340/00015555-2150
- Rossi O., Piccirillo A., Iemoli E., et al. Socio-economic burden and resource utilisation in Italian patients with chronic urticaria: 2-year data from the AWARE study // World Allergy Organization J. 2020. Vol. 13, N 12. Р. 100470. doi: 10.1016/j.waojou.2020.100470
- Maurer M., Metz M., Brehler R., et al. Omalizumab treatment in patients with chronic inducible urticaria: a systematic review of published evidence // J Allergy Clin Immunol. 2018. Vol. 141, N 2. Р. 638–649. doi: 10.1016/j.jaci.2017.06.032
- Metz M., Schütz A., Weller K., et al. Omalizumab is effective in cold urticaria-results of a randomized placebo-controlled trial // J Allergy Clin Immunol. 2017. Vol. 140, N 3. Р. 864–867.e5. doi: 10.1016/j.jaci.2017.01.043
- Metz M., Ohanyan T., Church M.K., Maurer M. Omalizumab is an effective and rapidly acting therapy in difficult-to-treat chronic urticaria: a retrospective clinical analysis // J Dermatological Sci. 2014. Vol. 73, N 1. Р. 57–62. doi: 10.1016/j.jdermsci.2013.08.011
- Maurer M., Schütz A., Weller K., et al. Omalizumab is effective in symptomatic dermographism-results of a randomized placebo-controlled trial // J Allergy Clin Immunol. 2017. Vol. 140, N 3. Р. 870–873.e5. doi: 10.1016/j.jaci.2017.01.042
- Ghazanfar M.N., Sand C., Thomsen S.F. Effectiveness and safety of omalizumab in chronic spontaneous or inducible urticaria: evaluation of 154 patients // Brit J Dermatol. 2016. Vol. 175, N 2. Р. 404–406. doi: 10.1111/bjd.14540
Дополнительные файлы